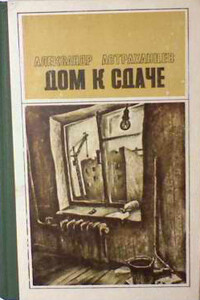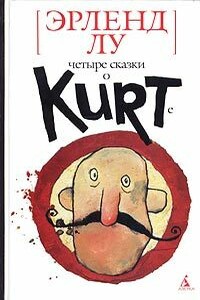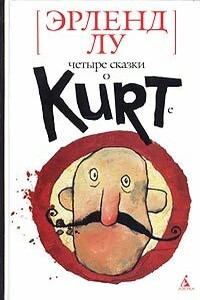Проснулся среди ночи — на сердце муторно: опять дурной сон; просто замучили — все о прошлом да о прошлом… Знаю, что до рассвета уже не сомкну глаз проклятая бессонница — дай, думаю, попробую восстановить, хоть как-то развлечь себя…
Сначала, помню, стою, будто, у кассы: дают получку. Полтора часа отстоять пришлось, еле досталась, но не зря стоял: только это мне отойти — какая-то баба подходит и говорит: «В магазин колбасу завезли. И рыбу красную». «Какую колбасу?» — спросили ее. «Да чайную, вареную». — «А рыбу какую?» все допытывался кто-то дотошный. «А откуда я знаю? — отвечает уже раздраженно. — Красную да и красную. Одним словом, не зеленую!» Красной тут называют горбушу — про осетровых и слыхом не слыхали. Кету завозят редко, и до прилавка не доходит, чаще — горбушу: демократическая рыба. Думаю: вот и прекрасно — надо бы и колбаски, и красной рыбки, побаловать себя и домашних с получки. И сидорок как раз с собой, вместительный такой сидорок: пол-пуда затолкать можно. Представляю, как дома до потолка прыгать будут, когда с таким уловом припилю… И как был: в кирзачах и телогрейке, — от кассы прямо в магазин; ну ее начисто, идти переодеваться — не успею, да и темно уже, и подмораживает крепко к ночи.
Магазин — одно название: дощатый барак, как всё тут; хотели временно, да так и остался… Захожу — народу видимо-невидимо, лампочка еле светит, пар изо ртов. И — почти одни женщины. Галдеж. Прислушался: нет, галдеж спокойный, вроде бы, всем хватит. Хотел без очереди втереться — бабы сразу, как пчелиный улей, затревожились, загалдели сильнее. Пошарил глазами: знакомых, чтоб примазаться, никого. Спросил, кто последний, встал, да так хорошо подгадал: только занял, за мной уже длинный хвост — прибежали, учуяли… Стою, тихонько о стенку оперся; главное, ни о чем не думать — так время быстрей идет; можно даже вздремнуть под бабий галдеж. А они ртов не закрывают — прямо птичий базар.
Время и вправду быстро пролетело; всего-то два часа, если прикинуть, и стоял. Стоял и двигался. Вернее, сама очередь, стиснувши, тихонько несла меня к прилавку.
Хорошо, что две продавщицы: одна эту самую колбасу и красную рыбу отпускает, а чуть продвинешься — там водкой и консервами отоваривают.
И вот я совсем уже близко — вижу и продавщицу, шуструю бабенку в грязно-белом халате поверх телогрейки, с папиросой во рту и с хриплым простуженным голосом, и весы ее различаю в полумраке на каком-то шатком подобии прилавка из тарных ящиков, и даже ворох колбасы на полу, свитый из тонких полуколец, на расстеленной сырой клеенке вижу, и, уж само собой, бочку, из которой продавщица выхватывает вилкой мятых тощих рыбин с капающим с хвостов рассолом.
Но чем ближе — тем тесней и шумнее; возле весов бабы становятся совсем злые — лаются, кричат на продавщицу: «Чего ты мне эту дохлую суешь? Вон Маньке какой толстой накидала!»
— «Да пошла ты! — отбрехивается та. — Где я вам всем толстой наберу? Вырожу, что ли?..» Причем она, кажется, сказала не «вырожу», а посолонее да покрепче.
А тут еще нетерпеливые бабы наперли на шаткий этот прилавок и сбили весы. Продавщица матерится, поносит очередь. Бабы отлаиваются, но вяло — знают, что виноваты, да и продавщицу заводить круче боязно: взбрыкнет и торговать откажется, а утром найди ее, эту колбасу!
Продавщица зовет на помощь грузчика: «Гош, а Гош!»
Грузчиков почему-то трое, хотя работа не потная — даже позавидовал: теплое местечко надыбали — стоят себе кружком позади продавщицы, явно уже поддатые, травят что-то и ржут до икоты, хотя понять, о чем это они, нет возможности: мат через каждое слово, поэтому и так, и этак все понять можно; один из них, Гоша, видать, отозвался продавщице с раздражением: «Да иди ты!..» — и что-то добавил дружкам, и те опять заржали. И только когда она гаркнула: «Я те щас пойду! Иди ты сам туда!» — этот самый Гоша оторвался, наконец, от компании, сдвинул сапогом край колбасного вороха, перешагнул через него и стал выправлять прилавок из ящиков и ставить заново весы, а остальные двое тем временем вышли через заднюю дверь на улицу и продолжили там разговор, мочась при этом на стенку: отчетливо слышны были через доски их голоса и журчание струек.
А на меня, пока стоял, такой вдруг голод навалился — а тут еще ворох колбасы рядом дразнит — что не выдержал: пока продавщица с грузчиком налаживали прилавок, протянул руку и незаметно отломил в темноте наощупь кусок.
Только он мокрый оказался, склизкий и холодный — противный, в общем; но я все же незаметно очистил его от шкурки и, перемогая себя, откусил и стал жевать; колбаса пахла сырым мясом и, к тому ж, на зубах землей скрипела видно, слишком грязный попался; но есть-то хочется, да и не пропадать же куску: пересилил себя, проглотил, снова откусил. А женщина, что за мной, заметила и спросила: «Ну как?» — «Да ничего, — говорю, — есть можно», лень было подробно объяснять. А женщине, похоже, и достаточно, что съедобная. Я же незаметно-незаметно — весь кусок и умял, заморил червячка. Получилось, что и поспал, и поел — все в очереди. Зато полегчало: встрепенулся, смотрю вокруг соколиком.