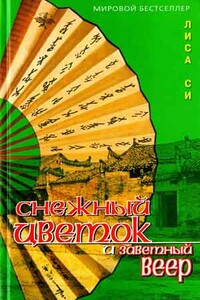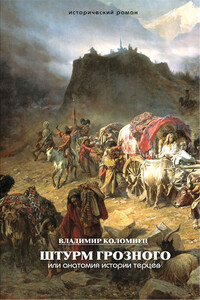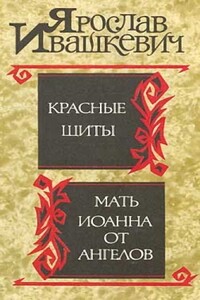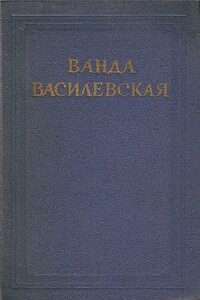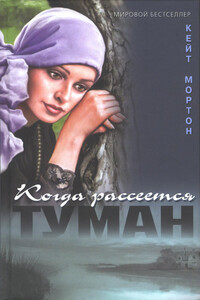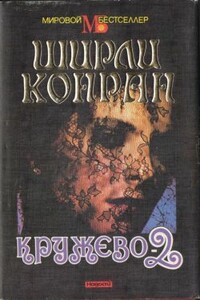Я — женщина, о которой в нашей деревне говорят: «та, что еще не умерла», — вдова восьмидесяти лет. Без мужа мои годы тянутся долго. Меня больше не привлекают особые блюда, которые Пион и другие молодые женщины в нашем доме готовят для меня. Я больше не предвкушаю радостных событий, которые так часто происходят под этой крышей. Теперь меня интересует только прошлое. Много лет спустя я наконец-то могу рассказать о том, о чем не смела говорить раньше, когда зависела от своих родных, воспитавших меня, или от родных моего мужа, кормивших меня. Мне можно говорить обо всей моей жизни; мне нечего терять, и мой рассказ никого не обидит и не оскорбит.
Я достаточно стара, чтобы знать свои хорошие и плохие качества (иногда это одни и те же качества). Всю свою жизнь я тосковала по любви. Я знала, что это неправильно, если девушка или женщина ожидает любви, но я тосковала по пей, и это неправедное желание было причиной всех трудностей, которые мне пришлось испытать. Я мечтала о том, чтобы моя мать обратила на меня внимание, чтобы она и все остальные члены моей семьи любили меня. Для того чтобы завоевать их любовь, я была послушной — идеальное качество для женщины — и изо всех сил старалась делать все, что они мне велели. Надеясь, что они будут хотя бы добрее ко мне, я старалась осуществить все их ожидания относительно меня — добиться самых маленьких перебинтованных ног в нашем уезде[3], — поэтому я позволила костям своих ног сломаться и приобрести более совершенную форму.
Когда я чувствовала, что больше не выдержу ни минуты этой боли, а на мои окровавленные бинты капали слезы, моя мать тихонько подбадривала меня, нашептывая мне на ухо, чтобы я потерпела еще час, еще один день, еще одну неделю, и напоминала мне о награде, которую я получу, если потерплю подольше. Так она научила меня переносить боль — не только физическую боль во время бинтования ног или при родах, но и более мучительную душевную и сердечную боль. Она также указывала мне на мои недостатки и учила меня, как использовать их с выгодой для себя. В нашем уезде мы называем такой тип материнской любви тэн ай. Мой сын рассказал мне, что в мужском письме это пишется двумя иероглифами. Первый означает боль, второй — любовь. Это и есть материнская любовь.
Бинтование изменило не только форму моих ступней, но и мой характер, и мне кажется, что этот процесс каким-то странным образом продолжается всю мою жизнь. Он превратил меня из послушной девочки в решительную девушку, затем — из молодой женщины, беспрекословно выполнявшей требования родителей мужа, в самую влиятельную женщину в уезде, которая добивалась соблюдения строгих правил и обычаев деревенской жизни. К моим сорока годам та жесткость, с которой бинты сжимали мои «золотые лилии», проникла в мое сердце, и оно цеплялось за обиды и несправедливость так крепко, что я не могла больше прощать тех, кого любила и кто любил меня.
Мой протест выражался исключительно в виде нушу, тайного женского письма. Впервые это произошло, когда Снежный Цветок — моя лаотун, моя «половинка», моя соученица и наставница в нушу — прислала мне веер, который лежит сейчас на моем столе, и затем вновь, когда мы встретились с ней. Но отношения со Снежным Цветком не мешали моей решимости стать честной женой, достойной невесткой и добросовестной матерью. В тяжелые времена мое сердце было твердым, как нефрит. Я обладала способностью противостоять бедам и выносить горе. И вот я перед вами — вдова, которая спокойно сидит, как предписывает ей традиция. Теперь я понимаю, что слишком долго была слепа.
Если не считать трех ужасных месяцев пятого года правления императора Сяньфэна[4], я провела всю свою жизнь в верхних женских комнатах. Да, я ездила в храм, посещала дом своих родителей, даже ездила в гости к Снежному Цветку, но я мало знаю о внешнем мире. Я слышала, как мужчины говорили о налогах, засухе и восстаниях, но все это было далеко от меня. Я вышивала, ткала, готовила, знала только родственников моего мужа, своих детей, внуков, правнуков и нушу. Мой жизненный путь был обычным для женщины: дочерние годы, годы закалывания волос, годы риса-и-соли, а теперь — годы спокойного сидения.
И вот я здесь, наедине со своими мыслями и этим веером, лежащим передо мною. Когда я беру его в руки, он кажется удивительно легким, а ведь он содержит в себе записи о стольких радостных и печальных событиях. Я открываю его быстрым движением, и щелчок каждой раскрывающейся складки кажется мне стуком трепещущего сердца. Слезы воспоминаний застилают мне глаза. За последние сорок лет я перечитывала надписи на веере столько раз, что запомнила их, как детскую песенку.