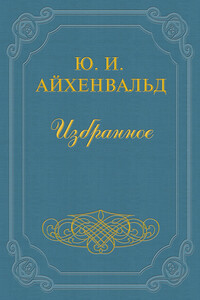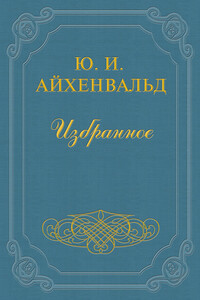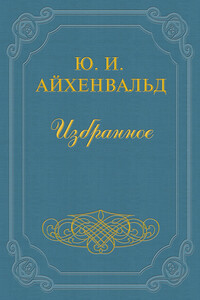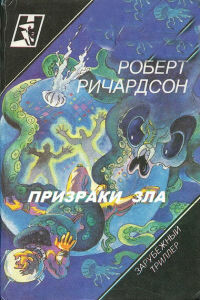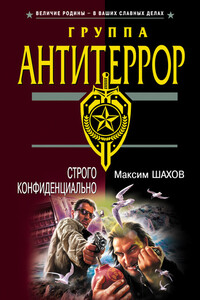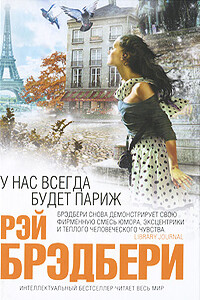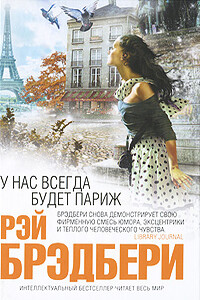Особенность литературной манеры Слепцова заключается в том, что русскую жизнь он раздробляет на вереницу коротеньких сцен, воспроизводящих действительность в ее звуках, в ее характерной фонетике. Он больше слышит, чем видит. Третий класс железной дороги, в окна которого глядятся однообразные пейзажи, какое-нибудь шоссе с его пешеходами, случайный ночлег на постоялом дворе – все это для автора, находящегося в беспрерывном путешествии, составляет неиссякаемый резервуар речей, разговоров и отдельных идиомов, которые он, в своем этнографическом любопытстве, охотно запоминает и записывает. Слепцов как бы удерживает мгновения, заполненные словами, и эти слова он подслушивает и повторяет с необычайной точностью – во всех переливах интонаций, во всей сохранности голосов и тембров; его можно было бы уподобить фонографу, если бы регистрация звуков не соединялась у него с их художественной обработкой. Верный тому, что слышит, он не довольствуется нормальной жизнью русского языка; для него мало обычного употребления гласных, и регент на спевке выводит у него: «Вюрую ву юдюного Буга Утца». Спевка вообще (на ней, впрочем, не столько поют, сколько пьют) дает ему, собирателю и ловцу звуков, обильный фонетический материал. Здесь раздолье его удивительно тонкому слуху, для которого доступен и чужой шепот; здесь можно подметить, как «виляют голосом, точно хвостом» и певчие исполняют указания своего корифея: «тенора капни и уничтожься! альта журчи ручейком! дишканта замирай!» Автор тщательно копит все эти человеческие мелочи и, благодаря послушному аппарату воспроизведения, сберегает для нас отклики мимолетных восклицаний, которые иначе отзвучали бы, не успев прозвучать. Одаренный слухом больше, чем все русские писатели, искусный счетчик звуков, он ничего не пропускает мимо своего чрезмерного внимания; он не делает различия между главным и второстепенным; для него важны каждый слог, каждое междометие, потому что звуки, как бы ничтожны они ни казались, цепляются один за другой и в своей совокупности создают определенный текучий узор, копию жизни, с подлинным верную и оттого внутренне значительную.
Жизнь звучит, и всякий может в этом звучании различить иное, услышать и понять его по-своему. Для Слепцова жизненный шум – это, с внешней стороны, сплошной разговор. И вот писатель старается уловить его брызги, осколки людских речей, и каждое из лучших его произведений – отрывок. Действительность рисуется ему как беспрестанные встречи собеседников; она очень редко принимает форму монолога, и даже беседа ее совсем непространна и нескладна. Жизненный диалог – это короткие строки обращений и реплик, вопросов и ответов. Человеческий разговор, подслушанные моменты которого составляют тему слепцовских рассказов, несмотря на свою лаконичность, до такой степени содержателен и понятен, что не нуждается ни в каком комментарии. Автору приходится делать очень мало пояснений от себя, ремарок и вставок. Да и к перу он прибегает только в силу технической необходимости – будь его воля и возможность, он предпочел бы устное изложение, так как именно в живой, непосредственной звучности сказываются для него характеры людей, их миросозерцание; и жизненные драмы, особенно их финалы, растворяются в словах и в том ладе, на какой их произносят. И в этом отношении Слепцов заходит так далеко, что слова у него в конце концов приобретают какую-то самостоятельность, точно они отрешены от своих понятий, от своих психологических спутников и предшественников, – во всяком случае, от своей эмоциональной окраски. Его как будто не интересует, что все слова – только отражения известных настроений и чувств. Может быть, именно в связи с этим находится и то, что его герои часто говорят, продолжают говорить и тогда, когда сказать уже больше нечего, когда фразы служат лишь повторением и будто топчутся на одном месте. Слова у него – сами по себе, и они бесчувственны.
Это – потому, что он ограничивается ролью бесстрастного подслушивателя жизни. Фонограф равнодушен, и этим он оскорбителен. И даже в самой точности его репродукций есть нечто отталкивающее. Нельзя рассказывать всего, что подслушано у жизни. Как будто между мною и миром должна оставаться некая тайна, и я не смею передать всего, что слышал и видел. Слепцов же имеет такое дерзновение. Бездушно, неумолимо и сухо воспроизводит он жизнь, протоколирует ее, а сам как бы остается ни при чем, в стороне, и не берет на себя никакой ответственности за сообщаемое. Выходит ли смешно, выходит ли печально (чаще всего – то и другое одновременно) – все это делается само собою, помимо него. Он ничему не удивляется. Ему все равно, услышит ли он пристойное или непристойное: он не брезглив, он все повторит и дойдет до самых пределов того, что выносит печатное слово, а иногда переступит и эту грань. Он не любит многоточий, употребляет их в самом крайнем случае и только там, где они прозрачны; напротив, он охотно раскрывает многоточие самой жизни, и она порою как бы скромнее его…
В своей холодной, неизменной точности он не признает изобилия штрихов: законченный звуковой рисунок для него гораздо дороже красок, отточенная сжатость составляет его отличительную черту. Одна короткая фраза следует за другой, один факт нанизывается на следующий – большей частью в бесстрастном хронологическом порядке, и кажется, какая бы душевная катастрофа ни произошла с героем, Слепцов спокойно заставил бы ее, в своем повествовании, дожидаться все той же временной очереди и не рассказал бы о ней раньше, чем о любой детали. Для его эпоса типична такая форма: «Приехали в какую-то деревню ночевать. Остановились у одной бабы. Мужик постучал в окно. Впустили. Хозяева только было собирались ложиться. Баба вошла в избу, а мужик пошел отпрягать лошадь. Сам хозяин еще не ворочался с поля. В избе было душно, мухи жужжали и лезли в лицо. На печи охала старуха; а вся семья была в клети. Хозяйка вошла в избу и, доставая из рукава блоху, спросила» и т. д. Так изображает он жизнь говорящую, Россию разговаривающую – таким же спокойным и чуждым всякого лиризма остается он и тогда, когда живописует природу своей страны: он и природу протоколирует. Прочтите, например, следующие строки: «Роса, ветерок подувает, небо с востока покраснело, из побуревших озимей вылетает перепел… Овраг, заросший орешником, внизу – мост… Туман поднялся, все чище и чище становится даль, ярче цветы, прозрачнее воздух, и встают кругом одно за другим далекие села, леса и озера… Рязанов глядел, как лошади бегут, как жаворонки сверху падают в зеленую рожь и опять, точно по ступенькам, поднимаются выше и выше; как стадо пасется по косогору; вон лежит в лощине свинья, а на свинье сидит ворона».