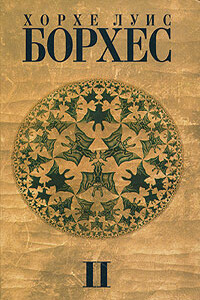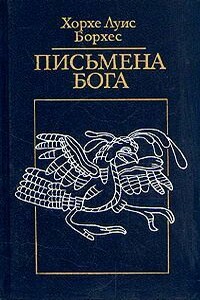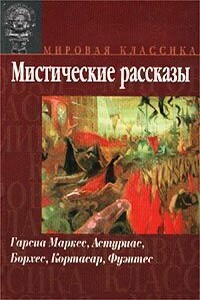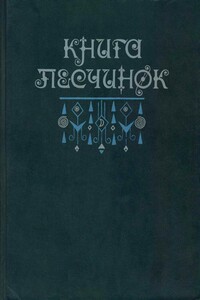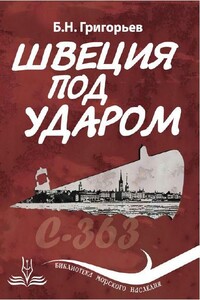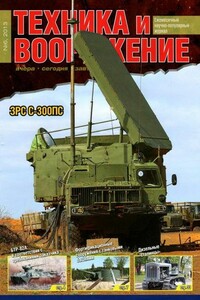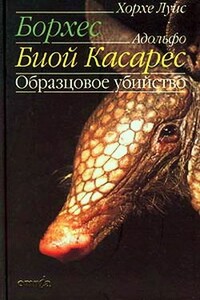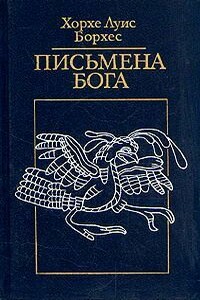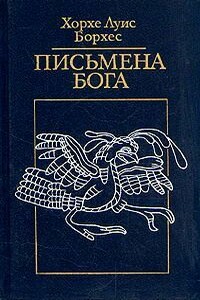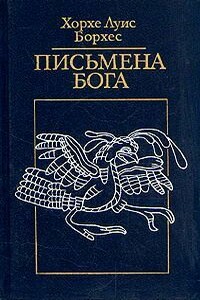20 сентября 1792 года Иоганн Вольфганг фон Гете, сопровождая герцога Веймарского в военном походе в Париж, увидел первую армию Европы, которая, ко всеобщему изумлению, потерпела при Вальми поражение от французов, и сказал своим озадаченным друзьям: «Здесь и сегодня открывается новая эпоха мировой истории, и мы можем утверждать, что присутствовали при ее рождении». С того дня несть числа эпохальным событиям, а правительства (особенно Италии, Германии и России) приложили немало усилий, чтобы выдумать их или же инсценировать, не без помощи настойчивой пропаганды и рекламы. Подобные события, которые происходят словно под влиянием Сесила де Милля, больше сродни журналистике, нежели истории, – сдается мне, что история, истинная история, куда более скромна, а потому основные ее вехи могут быть долгое время сокрыты. Один китайский писатель как-то сказал, что люди не замечают единорога именно потому, что он абсолютно ненормален. Глаза видят то, что привыкли видеть. Тацит не осознал смысла распятия, хотя оно и присутствует в его книге.
К этому рассуждению привела меня слегка загадочная фраза, на которую я случайно наткнулся, листая историю греческой литературы. Вот эта фраза: «Не brought in a second actor» («Он ввел второго актера»). Я остановился и выяснил, что речь идет об Эсхиле: в четвертой главе своей «Поэтики» Аристотель пишет, что Эсхил «увеличил с одного до двух количество актеров». Как известно, драма зародилась из религии Диониса; первоначально лишь один актер – лицедей, поднятый на котурны, в черном или пурпурном облачении и в огромной маске – делил сцену с составленным из двенадцати человек хором. Драма была культовой церемонией и, как всякое ритуальное действо, рисковала остаться вовеки неизменной. Вероятно, так бы и случилось, но однажды за пятьсот лет до начала христианской эры изумленные, а может, и возмущенные (как предположил Виктор Гюго), афиняне присутствовали при не объявленном заранее появлении второго актера. В тот далекий весенний день, в том театре из камня цвета меда, что подумали они, что именно ощутили? Наверное, не возмущение, не восторг. Наверное, всего лишь легкое удивление. В «Тускуланских беседах» сообщается, что Эсхил вступил в пифагорейское братство, но мы так никогда и не узнаем, подозревал ли он, хотя бы отчасти, сколь значим этот переход от одного к двум, от единичности к множественности, а оттуда – к бесконечности. Второй актер привнес с собой диалог и бесконечные возможности взаимодействия характеров. А какой-нибудь зритель-провидец, наверное, разглядел бы следом за этим актером целую череду будущих образов – Гамлета и Фауста, и Сехизмундо, и Макбета, и Пера Гюнта, и других, которые до сих пор еще не доступны нашему взору.
И еще одно историческое событие открыл я для себя, предаваясь чтению. Случилось оно в Исландии, в XIII веке нашей эры, году примерно в тысяча двести двадцать пятом. В назидание грядущим поколениям историк и сочинитель Снорри Стурлусон описывал в своем поместье Боргарфьорд последнее похождение короля Харальда, сына Сигурда, по прозванию Суровый (Хардрада), известного своими баталиями в Византии, Италии и Африке. Тости, брат саксонского короля Англии Харальда, сына Гудини, жаждал власти и заручился поддержкой Харальда, сына Сигурда. Вместе с норвежским войском они высадились на восточном побережье и покорили замок Йорвик (Йорк). К югу от замка навстречу им вышло англосаксонское войско. Изложив эти события, Снорри продолжает: «Двадцать всадников приблизились к рядам захватчиков; и люди и лошади были одеты в кольчуги. Один из всадников крикнул:
– Здесь ли ярл Тости?
– Может статься, я и здесь, – ответил Тости.
– Если ты и вправду Тости, – сказал всадник, – принес я тебе весть, что брат твой предлагает тебе прощение и треть королевства.
– А ежели соглашусь я, – сказал Тости, – что получит король Харальд, сын Сигурда?
– И его не позабудут, – ответил всадник, – дадут ему шесть футов земли английской, а потому как роста он высо кого, набавят еще один.
– Коли так, – сказал Тости, – передай своему королю, что будем мы биться до самой смерти.
Всадники ускакали. Харальд, сын Сигурда, задумчиво спросил:
– Кто был тот рыцарь, что так складно говорил?
– Харальд, сын Гудини».
В других главах повествуется о том, что еще до заката того дня норвежское войско было разбито. Харальд, сын Сигурда, погиб в бою, так же как и Тости («Хеймскрингла» X, 92).
Век наш, пресытившись, должно быть, грубыми поделками патриотов– профессионалов, исполняется подозрений, едва учуяв героический дух. Меня уверяют, что духом этим проникнута «Песнь о моем Сиде», я явственно ощущаю его в строках «Энеиды» («Сын, у меня учись храбрости и истинной твердости, у других – успеху»), в англосаксонской поэме «Битва при Мэлдоне» («Копьями и древними мечами заплатит дань мой народ»), в «Песни о Роланде», у Виктора Гюго, у Уитмена и у Фолкнера («лаванда, чей запах сильнее запаха лошадей и ярости»), в «Эпитафии войску наемников» Хаусмена и в «шести футах земли английской» «Хейм-скринглы». Бесхитростность историографа скрывает тонкую психологическую игру. Харальд притворяется, что не узнал брата, давая понять, что и тот должен поступить так же. Тости не предает брата, но не предаст и своего союзника, Харальд же готов простить Тости, но не намерен допустить вторжение норвежского короля, а потому действует вполне понятно. Вряд ли можно что-нибудь добавить к хитроумному его ответу: получить треть королевства, получить шесть футов земли