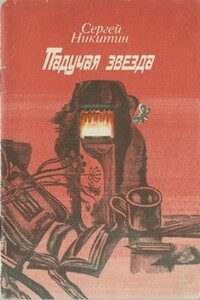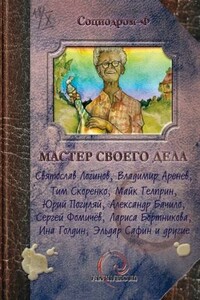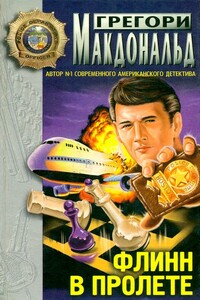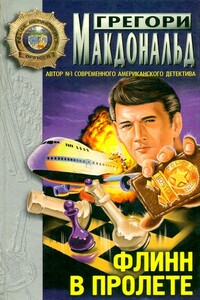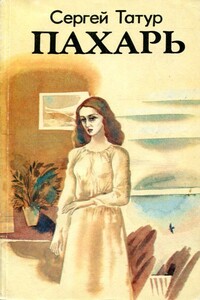Есть один писатель с птичьей фамилией… ну, скажем, Ястребов…
В тот, теперь уже далекий год, я жил на тихой улице тихого города в домике с яблоневым садом и, как умел, наслаждался жизнью, которую посылала мне моя здоровьеобильная и безденежная молодость. Одной из радостей этой жизни было пробуждение на заре, когда розовый туман повивает неподвижную листву деревьев и под окном содомятся воробьи. Хотя и говорится, — не радуйся раннему вставанию, а радуйся доброму часу, — я все равно каждое утро вскакивал в беспричинно радужном, бодром настроении и, одеваясь, напевал во все горло какой-нибудь бравурный мотивчик без слов: трал-ла-ла-ла… трам-там-та-там.
Однажды именно в такой момент рама вдруг стукнула, словно распахнутая упругим сквозняком, над подоконником появилась черная всклокоченная голова Гришки Ястребова, и он приветствовал меня небрежным помахиванием руки.
— Салют, старик! Шел мимо, слышу — поешь. Решил заглянуть.
— Ладно, влезай, — сказал я.
Он подтянулся на сильных руках и перемахнул через подоконник. Был Гришка парень рослый, с массивным подбородком, напористым, чуть с иронинкой взглядом из-под выпуклых бровей, и когда говорил, то было ясно, что его мнение лучше не оспаривать — сокрушит.
Мы познакомились с ним еще зимой в жарко натопленной и прокуренной редакции районной газеты. Страсть к перу и бумаге стихийно собирала там каждый день молодых, неопытных, ничего не умеющих, но полных надежд и полемического задора людей, называвшихся тогда начинающими писателями, — и среди них Гришка Ястребов заметно выделялся как своей волевой внешностью, могучим натиском в спорах, так и тем, что уже напечатал в районной газете один рассказ.
Мне рассказ не понравился. Но странное дело! Я усматривал в этом не Гришкину слабость, а свою литературную незрелость и неспособность постичь какие-то тайны творческой магии. Так порабощала нас мощь Гришкиной уверенности в себе.
В то утро, чокаясь со мной дешевым, но вкусным полусухим вином, добытым на рынке у приезжих молдаван, Гришка сказал:
— Выпьем за успех. Я верю, что буду первым… или никем.
Осенью мы оба были приняты в Литературный институт. Помню свое ощущение полуреальности мира, когда доселе почти неодушевленные, нематериальные авторы прочитанных книг вдруг явились мне в образах живых, осязаемых людей. Старец из прошлого века Телешов и совсем еще бодрые Тихонов-Себеров и Никулин, при взгляде на которых думалось, что Чехов, Толстой, Горький, Куприн не так уж далеко от нас во времени, а Бунин, как ледник, сохранивший в печальной душе своей ушедшую Россию, жив и поныне и еще не написал «Бернара», где скажет вещие слова: «Думаю, я был хорошим художником»… Высокий, стройный, изящный Фадеев и его улыбка, трогающая не только губы, а озаряющая все розовое юное лицо, его седина, не серая, не голубоватая, не с прозеленью, не с желтизной, а совершенно белая, как хлопок… Неторопливый, тихий голос Паустовского, голос сказочника, голос странника… Умное, сложенное из мелких черточек лицо Леонова со взглядом каким-то издалека, со страданием… Бас и монолитный, памятниковый облик «бровеносца» Луговского… И Пришвин — эдакий цыган-конокрад на покое — с его колдовскими речами… И маленький, как мумия, сероусый, с кругло-выпуклыми под веками яблоками глаз Серафимович в пышном окладе прощальных цветов…
Помню нашу институтскую библиотеку, убереженную от всех поветренных изъятий… Помню Тверской бульвар в пурпуре и золоте осени, в пушистых снегопадах зимы и задумчиво-печально склоненную голову бронзового Пушкина в свете старинных граненых фонарей… Помню трепетную радость постепенного приобщения к искусству и знанию через книги, лекции, встречи, товарищеские споры, литературные удачи и разочарования…
Гришка воспринял институт по-своему.
— Раньше мы теряли время каждый в одиночку, а теперь собрались все вместе и теряем его сообща, — говаривал он. — Работать, старики, надо, работать!
И Гришка работал. Его работоспособность граничила с самоистязанием фанатика. После лекций, наскоро перекусив в столовой Камерного театра, где нас по-добрососедски кормили недурными обедами, он запирался при помощи ножки стула, вставленной в дверную скобу, в пустой аудитории и выходил оттуда под утро, обросший сизой щетиной, с воспаленными глазами.
Он писал роман о белорусских партизанах.
— А что ты о них знаешь? — как-то поинтересовался я. — Ведь если сам не партизанил, то…
— Ты наивен, старик, — усмехнувшись, перебил меня Гришка. — Лев Толстой партизанил в двенадцатом году? Нет? Вот то-то. Я пошлялся недельку по Шкловскому и Оршанскому районам, схватил внешнюю обстановку, а чтоб мужиков писать, мне не занимать стать.
«Писать мужиков» на Гришкином языке означало «создавать образы».
Не помню, в каком из белорусских издательств роман вскоре вышел в переводе на еврейский язык. По тем временам выход у студента книги был событием в институтской жизни. Мы ощупывали увесистый томик с непонятными письменами, оттиснутыми на грубой бумаге, и проникались к Гришке завистью, почтением и восторгом.
— Работать, старики! Работать надо! — раскатывался Гришка в самодовольно-счастливом смехе.