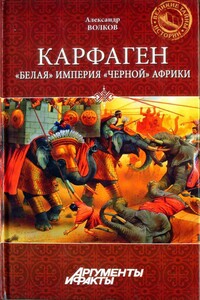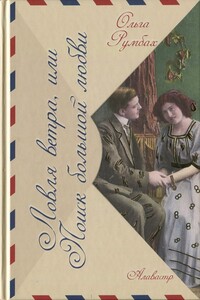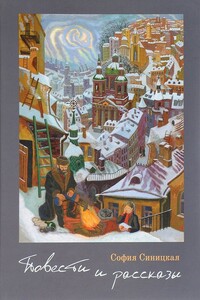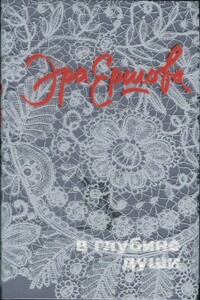Чарльз д'Амброзио
Сценарист
Откуда мне было знать, что всякое упоминание о самоубийстве в присутствии когорты врачей, совершавших пятничный обход, чревато не только потерей пропуска на выход в город по выходным, но и возможности справлять малую нужду без присмотра? Мысль о том, чтобы покончить с собой, впервые завладела мной лет в десять-одиннадцать-двенадцать, если не раньше, и с тех пор я настолько с ней свыкся, что всякого рода «суицидальные мечты» (как выражаются в здешнем учреждении) стали своеобразной колыбельной — убаюкивают. Конечно, зря я сказал своему лечащему, что не засыпаю по ночам, пока не улягусь навзничь и не натяну одеяло на голову, представляя, будто задвигаю крышку гроба. Но так хотелось быть честным и точным, заслужить репутацию образцово-показательного пациента. За то и поплатился: угодил в группу повышенного риска, где ко мне приставили невозмутимого крепыша из бывших спортсменов, который начал с того, что по-отечески похлопал меня по плечу и сказал: «Не боись!» — дескать, он и сам сценарист, пусть и не такой успешный и богатый, как я, но все же. Потом выяснилось, что его зовут Боб и что он пошел в санитары, чтобы набрать материал для сценария. Мне-то, наоборот, хотелось хотя бы в психушке забыть про кино, но с появлением Боба я только и думал: «Это годится для сценария? Или то? А может, и то, и это?» Он следовал за мной по пятам, держась на расстоянии двух-трех коротких шагов, скользил на подошвах больничных туфель так плавно, что мог бы сойти за тень, кабы не тревожное шарканье, казавшееся таким же оглушительным, как, наверное, оглушителен для муравья шорох оседающей пыли.
Как-то утром я валялся на койке, листая женские журналы. Когда Боб, заскучав, начал скрести ногтями голень, я встал и пошел в сортир. Боб сопел за спиной, но в состоянии моей восторженной саморефлексии стрекот струи, разбивавшейся о кафельный выем писсуара, заглушал для меня все остальные звуки, звенел так, словно я каким-то непостижимым образом мочился в собственную ушную раковину. Затем я устроился перед телевизором и посмотрел передачу про безногого альпиниста с громадными руками, который покорял горы; с помощью замысловатой системы канатов и шкивов он вздергивал себя вверх по склону, как авоську с бананами. А на вершине втыкал в землю американский флаг. При виде калеки, ценой неимоверных усилий торжествующего над собственным увечьем, я растрогался и даже пустил слезу. Чтобы успокоить нервы, стал слушать мерный чпок-чпок, доносившийся из игровой комнаты, где двое напичканных антидепрессантами пациентов сонно перекидывались пинг-понговым шариком. Это продолжалось недолго: за перечпоком последовало короткое пиу, а затем все стихло, причем намертво, и занервничав в этом внезапном беззвучии, я вышел на террасу. Сел — и Боб сел, но вскоре и терраса показалась невыносимой. Усидеть без дела (да и просто усидеть!) оказалось сложнее, чем на гарцующей лошади. Но стоило мне встать и пойти по кругу, как встал и Боб и пошел по кругу за мной.
Терраса была высоко; прямо под ней шумело шоссе имени Ф.Д. Рузвельта и виднелась Ист-Ривер, но вид портила высокая защитная сетка. По всему периметру стояли бетонные скамьи, похожие на раскатившиеся раковины каракатиц; по углам — неведомые растения в кадках. Голуби и чайки хищно висели над головой, белесые, на бреющем полете. Размяв в кулаке упаковку соленых крекеров, я высыпал крошки на колени поверх больничного халата и стал кормить птиц.
— Думаешь, у тебя эта хрень пройдет? — спросил Боб. Я перевел взгляд с крошек на него и сказал:
— Скука смертная, да?
— Я этого не говорил.
— Ты же хочешь кино сочинить. Собираешь материал. А на триллер явно не тянет.
— Даже на ужастик не тянет, потому что экшена никакого.
На другом конце террасы танцевала девушка, которую вся лечебница называла за глаза балериной. Достаточно было взглянуть на аккуратный, туго затянутый пучок на затылке, на тело, обладавшее, казалось, собственной, не подвластной рассудку, строгой памятью мышц, как становилось ясно, что она профессиональная танцовщица. С ней были ее бабушка и дедушка — два сморщенных гриба в не по росту огромных пальто и крошечных черных ботинках, иммигранты, должно быть, или беженцы, судя по старомодной (словно из девятнадцатого века) одежде и по тому, как даже сгорбленные старостью, они выглядели бдительными и настороженными, будто пригибались от пуль. " Люмпен, — вспомнилось почему-то, — люмпен-пролетариат«. Хотя к ним лучше подошло бы другое слово: «ламенто». Внучку они навещали каждый вечер и сейчас сидели на скамье, глядя, как она мечется в танце меж удлиняющихся теней. Старик курил сигарету без фильтра, орудуя языком, как ящерица, выскребая из зубов табачное крошево. Костистое лицо старухи выражало восхищение; в кулачке — комок носового платка. Старуха не могла без слез смотреть на красоту своей внучки, которую танец и впрямь облагораживал, доводил до экстаза. На девушке была стандартная мешковатая больничная роба (точь-в-точь как моя), а ноги босые. Кисти то разлетались по сторонам так плавно, словно на каждом пальце лежало по перышку, и страшно было их растерять, то вдруг резко изламывались в такт скачкам, порывистым, аритмичным, словно цель танца состояла в том, чтобы выскочить вон из кожи. Она металась из конца в конец террасы, подпрыгивая, выгибаясь, паря, вцепляясь пальцами в заградительную сетку, сотрясая ее. Но едва старики ушли — блямс — и танец в ней умер. Она оцепенела.