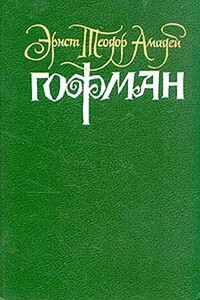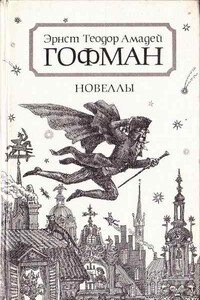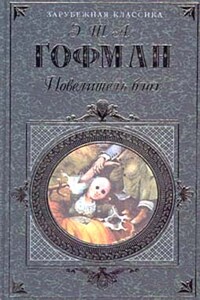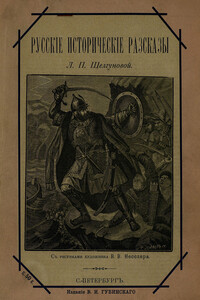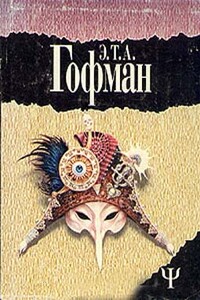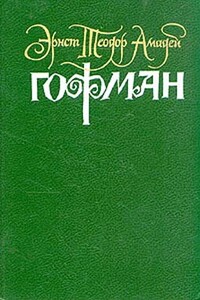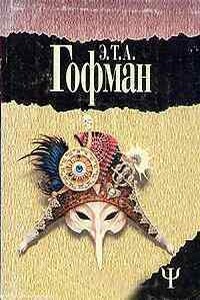Из цикла новелл "Ночные этюды" (часть первая)
Доктор задумчиво покачал головою.
― Как, ― с жаром воскликнул Капельмейстер, вскочивши со стула, ― как?! Стало быть, катар у Беттины и впрямь неспроста? Доктор тихонько раза три-четыре стукнул своею испанской тростью по полу, вынул табакерку и тотчас убрал ее, не взяв понюшки, устремил неподвижный взор ввысь, будто пересчитывал розетки на потолке, и сердито кашлянул, однако не произнес ни слова. Это совершенно вывело Капельмейстера из себя, ибо он уже знал, что этакая жестикуляция Доктора, если переложить ее в ясные, живые слова, означает вот что: «Скверный, скверный случай, и я теперь в полной растерянности, не ведаю, что и делать, то одно пробую, то другое, как небезызвестный доктор в «Жиль Блазе из Сантильяны».
― Ну так и говорите же прямо, ― раздраженно выкрикнул Капельмейстер, ― говорите прямо, не напуская такого чертовского туману вокруг безобидной хрипоты, которую Беттина приобрела потому, что, выходя из церкви, опрометчиво не надела шаль... Жизнью-то девочка за это наверняка не поплатится.
― Ни в коем случае, ― произнес Доктор, вновь достал табакерку и на сей раз действительно взял понюшку, ― ни в коем случае, однако весьма вероятно, что за всю жизнь она не споет более ни одной ноты!
Тут Капельмейстер обеими руками схватил себя за волосы, так что пудра тучею разлетелась в стороны, и забегал по комнате, выкрикивая как одержимый:
― Не споет?.. не споет?.. Беттина не будет более петь?.. Навсегда умолкли прелестные канцонетты... чудесные болеро и сегидильи, что струились из ее уст, словно звучащее благоуханье цветов?.. Более не услышать от нее ни благочестивого Agnus [2], ни утешного Benedictus?.. [3] O-o! Ни Miserere [4], что очищало меня от земной скверны подлых мыслей... и сплошь да рядом оживляло во мне богатейший мир совершенных церковных тем?.. Ты лжешь, Доктор, ты лжешь! Сатана вводит тебя во искушение устроить мне подвох. Соборный органист, преследующий меня гнусною завистью, с тех пор как я, к вящему восторгу всего света, разработал восьмиголосный Qui tollis [5], ― вот кто тебя подкупил! Ты должен повергнуть меня в безотрадное отчаянье, чтобы я швырнул в огонь мою новую мессу, но ему ― тебе! ― это не удастся! Здесь они, здесь, со мною ― сольные партии для Беттины (он хлопнул себя по карману сюртука ― послышался мощный хруст), и девочка сей же час исполнит их своим дивным, звучным голосом, да еще лучше, чем бывало.
Капельмейстер схватил шляпу и хотел было уйти, Доктор, однако, остановил его и очень мягко, очень тихо сказал:
― Я уважаю ваш драгоценный энтузиазм, благородный мой друг! Но я ничуть не сгущаю краски, и с соборным органистом я вовсе не знаком ― так уж оно есть! С той поры как Беттина исполнила на богослужении в католической церкви сольные партии в Gloria [6] и Credo [7], она поражена странною хрипотою, вернее сказать, безголосицей, которая упорно сопротивляется моему искусству и, как я уже говорил, внушает мне опасение, что Беттина не сможет более петь.
― Ну что же, ― воскликнул Капельмейстер будто в смиренном отчаянье, ― ну что же, тогда дай ей опию... дай опию и давай его до тех пор, пока она не отойдет тихо в мир иной, ибо если Беттина не будет петь, то ей нельзя и жить, ведь живет она, только когда поет... в пении вся ее жизнь... чудесный Доктор, сделай мне одолжение, отрави ее, и чем раньше, тем лучше. У меня есть связи в уголовной коллегии, я учился в Галле с председателем, он был великий корнетист, по ночам мы играли бицинии с непременным вступлением хоров собак и кошек! Тебе ничего не будет за честное убийство... Отрави же ее... отрави...
― Что ни говори, ― прервал Доктор словоизвержения Капельмейстера, ― что ни говори, а годы наши уже немалые, и волосы давненько приходится пудрить, однако ж, особливо касательно музыки, vel quasi [8], мы празднуем труса. Не след этак кричать, не след этак дерзко говорить о греховном убийстве, надобно спокойно сесть вон в те кресла и хладнокровно меня выслушать.
― Да что здесь слушать-то! ― вскричал Капельмейстер, едва не плача, но все-таки сделал как велено.
― Поистине, ― начал Доктор, ― поистине состоянию Беттины присуще нечто весьма странное и удивительное. Говорит она громко, в полную силу, о каком-либо обыкновенном недуге нечего и думать, она способна даже задать музыкальный тон, но как скоро желает запеть, нечто непостижимое, не являющее себя ни резью, ни перханьем, ни щекоткою, ни зудом, ни иным каким явно болезненным симптомом, цепенит силу ее голоса, так что всякая нота, хотя и не звучит сдавленно и нечисто, словом катарально, замирает, глухая и бесцветная. Сама Беттина весьма справедливо уподобляет свое состояние ощущениям, какие порой испытываешь во сне, когда, вполне сознавая, что умеешь летать, тщетно стремишься подняться ввысь. Это дурное, болезненное состояние не поддается моему искусству, леченье не приносит результата. Враг, которого я должен победить, подобен бесплотному призраку, ему нипочем все мои уловки. Вы, разумеется, правы, Капельмейстер, вся жизнь Беттины сосредоточена в пении, ведь райскую птицу иначе как поющей и представить себе невозможно, вот почему от одной только мысли, что гибнет ее песня, а с нею и она сама, Беттина места себе не находит, и я почти совершенно убежден, что именно эта непрестанная душевная ажитация усугубляет ее недуг и сводит на нет мои старания. Она сама говорит, что по натуре чрезвычайно боязлива, и после того как я месяцами, точно потерпевший кораблекрушение, хватался за любую соломинку, прибегая то к одному, то к другому средству, и оттого вконец пал духом, мне кажется, что болезнь Беттины скорее психического, нежели физического свойства.