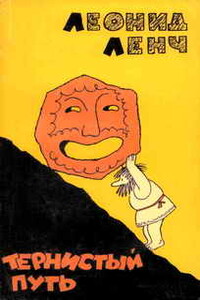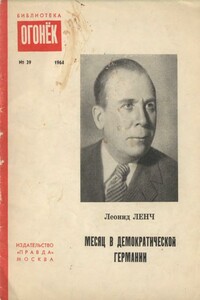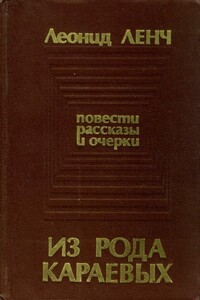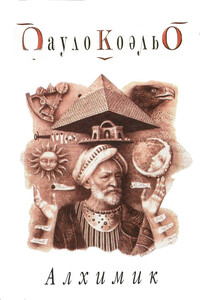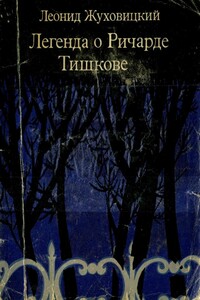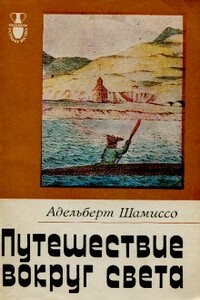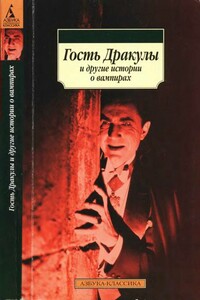На днях иду по улице Горького пешочком, обдумываю сюжет нового рассказа (на ходу думается хорошо, только не надо очень уж углубляться: можно наскочить на столб и заработать шишку на лбу, а то и упрек в надуманности содержания, — это уже от критика!), как вдруг над самым ухом:
— Сколько лет, сколько зим!
Оглядываюсь, а это Иван Петрович Сливкин, старый знакомый.
— Иван Петрович! Здравствуйте, дорогой! Откуда? Какими судьбами?!
— Проездом! Я уже давно иду за вами следом, думаю: вы или не вы?
Гляжу я на Ивана Петровича и замечаю, что он как-то поблек, пожух. Был не человек — орел, а сейчас в голосе ласковое дребезжание, в глазах какая-то кислота.
— Иван Петрович, да здоровы ли вы, голубчик?
— Здоров-то здоров, но… неприятности!
— И крупные?
— В общем нет! Хотя, пожалуй, да!.. В общем устраиваюсь!..
— Как?! Разве вы?..
— Да, свободная птица. Федор Павлович-то… загремел! А я оказался… под обломками. Логика вещей!
— Знаете что, Иван Петрович, давайте зайдем хотя бы в это кафе, посидим в тепле, и вы мне все расскажете. Пошли?
— Сюжетик хотите из меня выжать? Ну, да бог с вами, пошли!
С Иваном Петровичем Сливкиным познакомился я в одном областном городе, куда приезжал по литературным делам. Он работал помощником у тамошнего начальства и слыл всемогущим человеком. Про него так и говорили: «Сливкин все может!» И действительно, снимет бывало Иван Петрович трубку одного из своих многочисленных телефонов, скажет приятным баском: «Сливкин говорит!» — и в пять минут уладит любое дело, откроет любую дверь, заручится любым покровительством. Мне он тоже оказывал кое-какие услуги по части добывания машин и железнодорожных билетов.
Посидели, выпили кофе (от более мужественных напитков Иван Петрович категорически отказался: «Иду в один тут… отдел кадров, дохнешь — подумают: «Злоупотребляет!»), закурили, и я осторожно спросил:
— Как же это все у вас… Иван Петрович?
Он ответил не сразу. Подумал, выпустил изо рта густой клуб дыма. Потом сказал задумчиво:
— Помните картину «Последний день Помпеи»? Вот и у нас примерно так же… Только там город рухнул, а у нас человек. Но какой?! Колосс! Махина! И, главное, из-за пустяка! В общем-то, конечно, не из-за пустяка. Но сначала казалось: именно из-за пустяка.
Я попросил Ивана Петровича уточнить свою мысль.
— Он рухнул из-за любви к искусству! — сказал Сливкин и вздохнул.
Мы помолчали. На высокое — от пролысины — чело Ивана Петровича легла легкая тень грусти.
— Все было так у него хорошо, так звонко! — продолжал Сливкин свой рассказ. — И вот захотелось ему себя отметить. Пока там, наверху, соберутся… Да и соберутся ли? Вот он и решил, так сказать, проявить здоровую инициативу снизу. Встал вопрос: как отметить? Федор Павлович решил: отметить средствами искусства. Тогда встал новый вопрос: какого искусства? У нас в городе имеется всякое искусство, и на всякое отпущены соответствующие ассигнования. Можно было, например, привлечь местных наших драматургов, чтобы они написали про Федора Павловича пьесу на тему борьбы за городское благоустройство и затем поставить ее в областном театре. Однако по зрелом размышлении этот вид искусства был отвергнут.
— Это почему же так, Иван Петрович?
— Во-первых, долго пишут. Во-вторых, пропускают пьесы тоже долго. А в-третьих, очень уж часто они ошибаются, театры и драматурги. Не одно, так другое! То пошлятину подпустят, то с конфликтом у них заест, а то переделками доконают: на репетициях начнешь свою сценическую жизнь положительным Федором Павловичем, а на сцену выскочишь отрицательной старухой Федорой Петровной, шестидесяти пяти лет, с бородавкой на носу… Короче говоря, подумали и отвергли! Тогда стали размышлять о музыке. А что, если сочинить этакую торжественную кантату без слов, одни сплошные аккорды? Композиторы в городе имеются, музыканты-исполнители тоже. Но Федор Павлович музыку категорически отверг. Он ее не любил: у него слуха не было. Он бывало ходит по кабинету, напевает себе под нос «Летят перелетные птицы», а получается «Чижик, чижик, где ты был?..» Все мотивы на «Чижика» переводил… Остановились в конце концов на изобразительном… И, конечно, кому поручено было обеспечить?
— Вам! «Сливкин все может!» — вставил я, не удержавшись.
— Совершенно верно! — серьезно сказал Иван Петрович. — Однако слушайте, как дальше-то обернулось!.. Позвонил я в местную художественную студию, вызвал людей, объяснил задачу. Трое отказались, двое выразили согласие получить авансы. С руководителем я провел отдельную беседу, попросил бдительно проследить. А то ведь среди художников попадается, знаете ли, разный народ. Иной возьмет аванс, и сразу же у него начинается творческая пауза, которая иногда длится годами. У него пауза, а у распорядителя кредитов неприятности в Госконтроле…
Иван Петрович снова замолчал. Тучка на его челе сгустилась и как бы потемнела. Он помешал ложечкой остывший кофе в стакане, сделал глоток.
— Неужели художники подвели? — спросил я Ивана Петровича с искренним — уверяю вас! — сочувствием.
— Подвели-то, подвели, — ответил Сливкин, — но не в том смысле, в каком вы думаете. Все картины были написаны точно в срок. И приемочная комиссия дала им отличную оценку. Одним словом, полный порядок! Решено было устроить выставку с обсуждением. Я дал команду в отдел искусств, оповестили общественность — и грохнули! Сначала все шло просто замечательно. Паркет натерт до блеска, везде живые цветы… Приглашенные товарищи чинно гуляют по залам, рассматривают картины, гудят, как шмели: жу-жу, жу-жу!.. Федор Павлович тут же стоит под своим роскошным поясным портретом в золоченой раме, щурится, извините, как сытый кот, от удовольствия. А напротив, на стене, висит картина, которую художник назвал «Большое событие». Событие вот какое: год назад открывали мы в рабочем районе города новую баню (красивое такое здание в мавританском стиле). И художник отобразил на полотне этот волнующий момент, поместив на первом плане представительную фигуру Федора Павловича. Рядом с этой картиной другая, под названием «Зеленый шум», на тему озеленения нашего города: Федор Павлович собственноручно сажает какой-то там прутик. Чуть подальше большое полотно «Выходной день». На полотне наша речка, закат, березки, трава (места у нас изумительные, сами знаете), а на травке на бережку сидит Федор Павлович в белой рубашонке, удит окуней… Ну, и так далее, в том же духе.