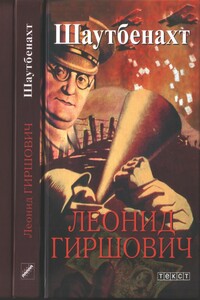Гольдберга хоронили в воскресенье 28 октября. Колчанов, понятное дело, был на похоронах, был и на поминках в гольдберговской квартире на Расстанной угол Лиговки. Ну, а как не быть? Хоть и маялся он, Колчанов, в те холодные дни с зубами. Как не быть, если их, старых бойцов морской пехоты, осталось раз-два и обчелся. Можно сказать, обезлюдела Балтика.
На поминках сидели тесно. С одной стороны сдвинутых столов была положена на стулья длинная доска, на ней поместились сослуживцы Гольдберга со «Светланы», и один из них, инженер с треугольным лицом и аккуратно уложенной по лысине желтой прядью, руководил столом. Светлановцы светло говорили о Гольдберге: какой он был толковый вакуумщик, и никто грубого слова от него не слышал, всегда с шуточками, и очень любил жизнь.
Еще как он любил жизнь, думал Колчанов. Когда в том проклятом августе держали из последних сил Котлы, во время короткой передышки в осыпавшейся траншее Мишка Гольдберг сворачивал цыгарку, а руки у него тряслись, как бы продолжая дрожь работающего «дегтяря», и Мишка выругался и попросил его, Колчанова, скрутить козью ножку. Он, Колчанов, скрутил, хоть и у него руки плохо слушались, и сунул Гольдбергу самокрутку в оскаленный, обведенный пороховой гарью рот. Спички тогда еще были, еще их не заменили кресала… Закурили оба, и Мишка сказал, щуря под каской черные тоскующие глаза: «Ни хрена не жалко. Котлов не жалко. Копорья не жалко. Только жизнь жалко». «Дегтярь» медленно остывал на бруствере. А вскоре опять началось…
Как уходили, как выжили в том насквозь простреленном августе — лучше не вспоминать. Страшно, во весь окоем, горели Котлы…
Напротив светлановцев сидели Мишины друзья по флоту — несколько отставных кавторангов, ну и он, Колчанов, и Цыпин. Перед ними во всю стену — на художественных обоях — простирался гористый берег. Скалы, поросшие сосновым лесом, круто обрывались в залив, и тихая сине-зеленая вода с зеркальной точностью отражала их. Два мира, нормальный и перевернутый, застыли на стене.
Мало, ох мало осталось нас, думал Колчанов, осторожно откусывая от куска розовой ветчины. Зубы от выпитой водки малость унялись, но надо бы их поменьше утруждать.
Цыпин, сидевший рядом, толкнул его ногой по колену и сказал быстрым своим говорком, обращаясь к руководящему светлановцу:
— Прошу прощения, тут хочет слово поиметь Колчанов Виктор Васильевич. От имени морской пехоты.
Колчанов, конечно, и без цыпинской инициативы имел что сказать. Но Цыпин, черт лобастый, всегда поперед батьки лезет.
— Да, да, — закивал тот, с треугольным лицом. — Пожалуйста.
Колчанов тронул седые усы, галстук поправил и сказал:
— Мы с Мишей знакомы с сорок первого. Их батальон курсантов-дзержинцев под Котлами дрался на левом фланге нашей Второй бригады…
Он помолчал, уязвленный внезапной мыслью, что вряд ли кому-нибудь интересны подробности их когдатошних боев. Валентина, Мишина жена, смотрела на него заплаканными глазами. Очень расплылась Валентина, а такая была точеная фигурка… Ах, Валечка, вот и к тебе беда вломилась… Лёня, их сын, тоже выжидательно глянул на Колчанова. Миша сыном был вечно недоволен за то, что он, Лёнька своенравный, бросил институт, уехал в экспедицию к черту на кулички, на хребет Черского, потом загремел на военно-морскую службу и опять очутился на краю земли, на каком-то мысе в Баренцевом море близ границы с Норвегией, а теперь вместе с компаньоном — Нининым мужем, колчановским зятем — открыл кооперативное кафе. А Миша-то Гольдберг мечтал, чтобы Лёнька стал ученым, математиком… Сам Акулинич, читавший в институте математику, признавал у Лёньки не то чтобы великие, но и немалые способности…
Спохватился, что пауза затянулась.
— Мы в конце августа шесть дней держали Котлы, потом Копорье, чтобы дать Восьмой армии, она отступала из Эстонии обескровленная, чтоб, значит, дать ей отойти за реку Воронку. Мы с Мишей случайно в одной траншее оказались, он меня спросил: «Ты питерский?» — «Да», — говорю. «Шахматный клуб, — говорит, — на Желябова знаешь? Ты, когда война кончится, сходи туда и скажи, что Гольдберг в партии с Неверовым допустил ошибку. На семнадцатом ходу должен был ферзем на же-шесть… жертва ферзя, но зато красивая атака… верный выигрыш… а я упустил…» Я говорю: «Больше никуда не надо сходить?» Тут нас опять накрыли огнем, мы носом в землю-матушку… Я что хочу сказать? Их почти всех выбило, курсантов. И Мишу убило. Это я так думал. А зимой сорок второго, после госпиталя, когда в Кронштадте формировали Двести шестидесятую бригаду, вижу: вот он, живой, великий пулеметчик. Я подошел и спрашиваю: «Так куда надо было ферзем играть?» А он как захохочет…
— Да, да, шахматы… — сказала Валентина с платочком у глаз. — Он обожал… Первый разряд у него…
— Я не о шахматах, — сказал Колчанов. — У Миши, вы, конечно, знаете, легкое было пулями порвано. Кашлял он. А все равно и пил наравне, и курил… Хотел от жизни все взять. В нем жизненной силы было, как в районной электростанции…
— Нет! — рявкнул Цыпин. Его бледно-желтые глаза были навыкате, а это значило, хорошо знал Колчанов, что Цыпин уже сильно поддатый. Седая бородка его стояла торчком. — Не было у Михаила жизненной силы смотреть, само, на этот бардак! Я как позвоню ему, так он всегда — за что мы с тобой воевали? Кому она нужна, что в ней такого, что все с якорей сорвались? В перестройке этой…

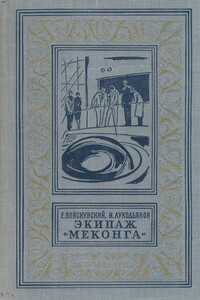

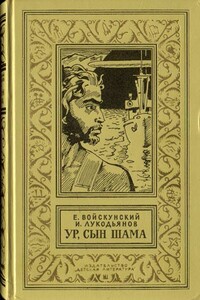

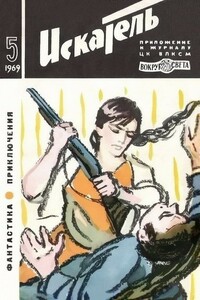


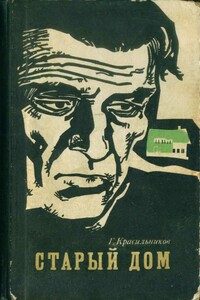
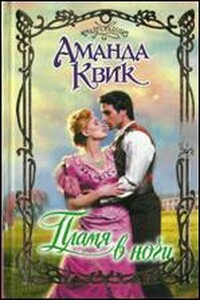

![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)