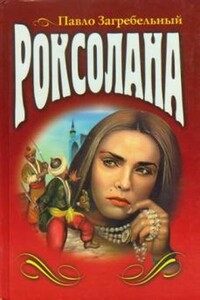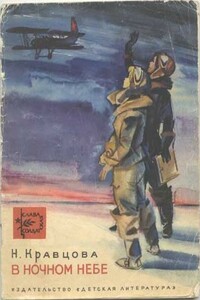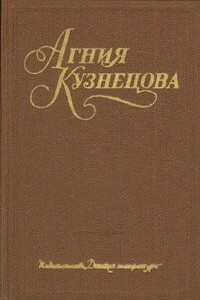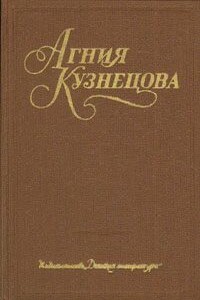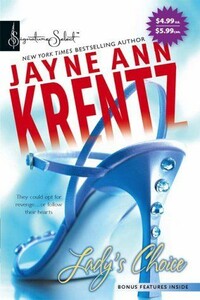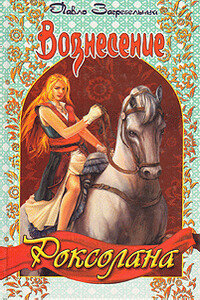От Ибрагима не осталось ничего, даже его любимых зеркал. Хатиджа не захотела взять ни одного, ибо каждое из них как бы хранило в своих таинственных глубинах бледное отражение того, кто опозорил ее царский род. Султанские эмины, которым велено было забрать имущество бывшего великого визиря в государственную сокровищницу, проявили интерес только к драгоценным оправам. Даже янычары, расположившись во дворце Ибрагима, вопреки своим привычкам, не стали бить зеркал, правда, не из суеверия, а скорее из трезвого расчета, потому что все это добро можно было отправить на Бедестан и распродать там хотя и за полцены, но все же получить при этом пользу большую, чем от вдребезги разбитого стекла.
Неожиданно из-за моря приплыло еще одно зеркало для Ибрагима. Уже для мертвого. У стамбульских причалов всегда было много зевак, которые встречали каждое судно так, будто надеялись, что оно принесет им счастливую судьбу. Посылал туда своих людей и Гасан-ага, желая без промедления получать вести, прилетающие с морскими ветрами. Вот так один из его Гасанов и узнал: на только что прибывшем венецианском барке привезено в дар Ибрагиму огромное зеркало. На этом барке приплыл в Стамбул посланный самим дожем Венеции Андреа Грити прославленный художник Вечеллио с несколькими своими учениками. Дож прислал своего любимого художника по просьбе сына Луиджи Грити, еще не зная о том, что сын его уже мертв, точно так же, как не знал о смерти великого визиря Ибрагима тот, кто посылал ему в дар редкостное зеркало.
Собственно, об этом зеркале и о художнике Гасан-ага немедленно известил свою повелительницу, опережая даже вездесущих султанских улаков доносчиков. Он переслал Роксолане краткое письмо и уже в тот же день получил от султанши повеление взять с барка зеркало и передать гаремным евнухам, чтобы те поставили его в кьёшк Гюльхане, обновленный Сулейманом для своей любимой жены во время ее последней болезни. О художнике Роксолана не упоминала, не интересовалась и тем, кто прислал Ибрагиму зеркало, но Гасан-ага и так знал, что когда-нибудь она может спросить и поинтересоваться, ибо была не только султаншей, а прежде всего женщиной капризной, непонятной и загадочной. Потому он должен был собирать сведения и об этом.
Зеркало было роскошное. Огромное, на полстены, в тяжелой золоченой раме, вверху у нее был вид стрельчатой арки, на которой летели два улыбающихся золотых ангелочка с оливковыми ветвями в руках. Кому принесут они желанный мир и принесут ли?
Зеркало украсило зал приемов в Гюльхане. Оно понравилось самому султану, но и Сулейман проявил сдержанность, достойную властелина, не спросив даже, откуда оно. Роксолана сказала ему о художнике, присланном дожем Венеции.
— Я уже знаю. Это Луиджи Грити попросил своего отца. Хотел, чтобы было как при великом Мехмеде Фатихе, когда Венеция тоже присылала в Стамбул своего самого знаменитого художника. Даже мертвый Грити оказывает мне услуги. Я обязан отомстить за его смерть, подобающим образом наказав венгров и этого коварного молдавского воеводу Рареша.
— Вы снова пойдете в поход, мой падишах? Ради какого-то мертвого купца-иноверца?
— Он был моим другом.
— Кажется, он был еще большим другом Ибрагима.
— Грити убит, когда он исполнял нашу высокую волю. Это преступление не может оставаться безнаказанным.
— Снова наказания и снова кровь? Мой повелитель, мне страшно. Не падет ли когда-нибудь эта кровь на наших детей?
— Это кровь неверных.
— Но все равно она красная. Людская кровь. Сколько ее уже пролито на земле! Целые моря. А все мало? Только и мыслей — как пролить еще больше? Ваше величество, не оставляйте меня одну в Стамбуле! Приостановите свой поход. Возьмите цветок в руки, как это сделал когда-то Фатих, и пусть этот венецианец нарисует вас, как нарисовал когда-то Фатиха его предшественник.
— Обычай запрещает изображать живые существа, — напомнил султан.
— Измените обычай, мой повелитель! Запрещать живое — не делает ли это людей кровожадными, преступно равнодушными к живой жизни?
— Чего стоит человеческая жизнь, когда имеешь намерение изменить мир? — торжественно промолвил Сулейман. — Виновен не тот, кто убивает, а тот, кто умирает. Враг врагу не читает Коран.
Роксолана смотрела на этого загадочного человека, не зная, любить или ненавидеть его за это упрямство, а он утомленно опускал веки, боясь посмотреть в глаза своей Хасеки, глаза такого непостижимого и недостижимого цвета, как и ее сердце.
— Прими этого живописца, — милостиво улыбнулся он, — для него это будет невероятно высокая честь.
— Он рисовал римского папу, императора, королей.
— Но никогда не имел чести разговаривать с всемогущей султаншей.
Роксолана засмеялась.
— Мой султан, эта почтенность меня просто убивает! Я больше хотела бы остаться беззаботной девчонкой, чем быть всемогущей султаншей.
Он тоже попытался сбросить с себя чрезмерную величавость, которая граничила с угрозой окаменения.
— И моему сердцу всегда милее смеющаяся и поющая Хуррем. Почему бы ей теперь не смеяться и не петь? Нет ни преград, ни запретов.
— А может, человек смеется и поет только тогда, когда есть преграды и запреты? Хочешь их пересмеять и перепеть, ибо как же иначе устранишь их? Радостью одолеть все злое.