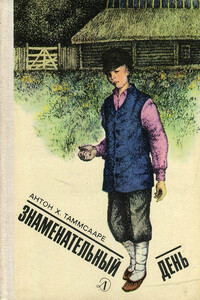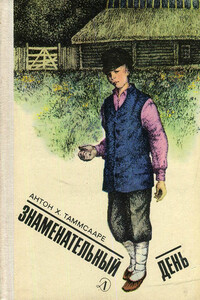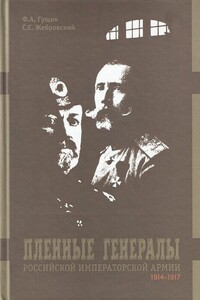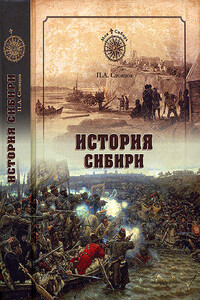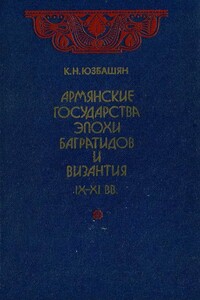В школе у меня была привычка в конце учебного года непременно пойти в книжную лавку и купить что-нибудь на лето. Карманных денег всегда не хватало, но магазин обычно распродавал залежавшиеся книги по необычайно низким ценам. Книги складывались кипами, и я рылся в них наобум в надежде найти что-то интересное. В один из таких набегов мне попалась на глаза старая мягкая обложка с репродукцией картины сюрреалиста Макса Эрнста. Под полумесяцем высоко в небо взметнулись две пары ног — тел не было видно — в очевидном акте заоблачного соития. На книге — прозаический перевод поэмы Лукреция «О природе вещей» («De rerum natura»), написанной две тысячи лет назад — стояла цена десять центов, и я купил ее тогда, мне думается, больше из-за картинки, а не из-за классического содержания.
Античная физика — не самая увлекательная тема для чтения в летние каникулы, но я все же как-то взял книгу в руки и сразу понял, почему на обложке изображен откровенно эротический сюжет. Лукреций начинал поэму страстным гимном Венере, богине любви, чье появление знаменует зарождение весны, озаряет светом небо и наполняет весь мир сексуальным вожделением:
Первыми весть о тебе и твоем появлении, богиня
[1],
Птицы небес подают, пронзенные в сердце тобою.
Следом и скот, одичав, по пастбищам носится тучным
И через реки плывет, обаяньем твоим упоенный.
Страстно стремясь за тобой, куда ты его увлекаешь,
И, наконец, по морям, по горам и по бурным потокам,
По густолиственным птиц обиталищам, долам зеленым.
Всюду внедряя любовь упоительно-сладкую в сердце.
Ты возбуждаешь у всех к продолжению рода желанье
>{1}.
Пораженный таким сладострастным началом, я продолжил чтение поэмы, миновал Марса, «сраженного вечной раной любви» и «склоняющегося на ее лоно», мольбы о мире и покое, восхваление мудрости философа Эпикура и осуждение суеверных страхов. Когда я подошел к пространному обсуждению основных философских принципов, мне казалось, что у меня должен был пропасть интерес: никто меня не обязывал читать эту книгу, я хотел получить удовольствие и в этом смысле свои десять центов окупил с лихвой. Но, к своему удивлению, мне хотелось читать поэму дальше.
Нет, меня привлекал не изысканный литературный стиль Лукреция. Позднее я прочел поэму в ее латинских гекзаметрах и понял все богатство и языка, и ритмики, и поэтических образов. Но первый раз мне пришлось постигать ее в прозе, в переводе Мартина Фергюсона Смита, профессиональном, ясном и непритязательном. Однако в убористом тексте объемом более двухсот страниц было нечто завораживающее и трогающее до глубины души. В силу своей профессии я привык, и этого требую от студентов, проникать в суть того, что лежит под внешней оболочкой словесных выражений. Удовольствие от чтения поэзии во многом зависит от умения чувствовать внутреннюю жизнь фраз. Это, конечно, не исключает возможность понимать литературное произведение в переводе, тем более талантливом. Именно таким образом большинство образованных людей познакомились и с Книгой Бытия, и с «Илиадой», и с «Гамлетом». Безусловно, предпочтительнее читать книги иностранных авторов на их языке, но это вовсе не значит, что надо пренебрегать переводами.
В любом случае я должен признать, что поэма «О природе вещей» произвела на меня впечатление и в прозе. Возможно, в какой-то мере сказались личные обстоятельства: любое произведение искусства всегда затрагивает какие-то особые струны в психике каждого человека. Лейтмотивом, пожалуй, всей поэмы Лукреция является отрицание страха смерти, а этим тревожным чувством было окрашено все мое детство. Сам я не думал о смерти, мне было свойственно типичное детское предвосхищение бессмертия. Меня постоянно угнетала абсолютная уверенность матери в ее скорой кончине.
Моя мать не боялась загробной жизни. Как и большинство евреев, она имела очень смутное представление о том, что ждет человека, попавшего в могилу, и она старалась не думать об этом. Ее страшили само умирание, безвозвратность ухода из жизни. Я до сих пор не могу забыть, с какой одержимостью она говорила о неизбежности конца, особенно в моменты расставаний. Все мое существование было наполнено экзальтированными и драматическими сценами прощаний. И когда они с отцом уезжали из Бостона в Нью-Йорк на уик-энд, и когда мать провожала меня в летний лагерь, и даже когда я уходил в школу, она прижималась ко мне и со слезами говорила о том, как она ослабла, предупреждая, что мы можем больше не увидеться. Если мы шли вместе куда-нибудь, она вдруг останавливалась, словно теряя сознание. Иногда она показывала мне вену на шее, брала меня за руку и просила пощупать пульс, чтобы удостовериться в том, как неровно бьется ее сердце.
Матери, наверное, не было еще и сорока лет, когда я начал замечать ее страхи смерти, а они появились у нее, видимо, гораздо раньше. Я думаю, они зародились лет за десять до моего появления на свет, когда умерла от болезни горла ее младшая, шестнадцатилетняя сестра. Такие утраты не были редкостью до открытия пенициллина, но мать очень тяжело переживала смерть сестры, она постоянно напоминала мне об этом, заставляла читать и перечитывать печальные послания, которые писала девочка-подросток во время болезни.