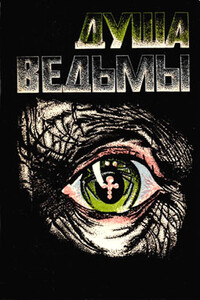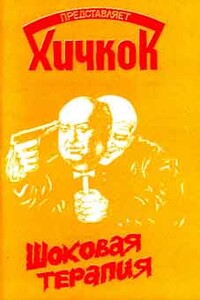Только после тяжелого сердечного приступа, который с ним случился впервые, Эдвин Хопплер заметил ребенка. Исходя из опыта общения со стрекочущим потомством своей замужней сестры, он сделал для себя вывод, что детей не любит. Но доктор, обтекаемо намекнув на то, что он чудом остался жив, прописал ему не меньше месяца постельного режима. Кто-то должен был приносить ему еду из столовой пансиона. Обычно такими делами занимался Тимми.
Бабушка вырядила Тимми в блузу и коротенькие бриджи, скроенные из ее старых халатов, и этот костюм, дополненный длинными черными челками из хлопка и самодельной стрижкой, придавал ему странное сходство с воспитанниками детских садов тридцатилетней давности. Успешно преодолев опасности, связанные с открыванием двери и размещением подноса, он задержался и, смущенно улыбаясь, ждал, когда Хопплер примется за еду. Хопплер всегда заговаривал с ним, но Тимми не отвечал. Однажды Хопплер заметил это миссис Дин, прибиравшейся в его комнате.
— А разве вы не знаете? — сказала она, положив тряпку и повернувшись к нему. — Я думала, что говорила вам. Бедный мальчик заболел скарлатиной, когда ему было пять лет, сразу после смерти матери. Он глухой. Он ровным счетом ничего не слышит.
Он ходит в школу для глухонемых, но по губам читать еще не научился. Учитель говорит, что их трудно научить, если они вообще не слышат. Ясное дело, что и говорить он не может.
— Это ужасно, — нехотя сказал Хопплер. Как всякому больному, ему не хотелось слушать о чужих бедах. — А вы уверены, что он совершенно глух? Мне кажется, я замечал, как он к чему-то прислушивается.
Миссис Дин покачала головой: — Вы про то, как он наклоняет голову вбок, будто слышит такое, чего вам не слышно? Это ничего не значит. Я справлялась об этом у доктора из клиники, и он сказал, что Тимми не может ничего слышать. Прямо мурашки по телу бегут, когда на него смотришь, правда? Меня все время пробирало, пока я не привыкла. Но уши у него все равно что глиной залеплены. Глухой он, бедняжка.
Когда в очередной раз Тимми принес еду, Хопплер подозвал его к кровати и сделал для него бумажный кораблик. Тимми робко улыбался и не решался взять. Наконец он чуть ли не вырвал игрушку из рук Хоплера и выбежал с ней из комнаты. После этого случая, принося еду, он задерживался дольше, и улыбка его становилась смелее.
Время от времени Эдвин видел его "слушающим". Он напряженно вытягивал набок шею, будто прислушиваясь, и глаза его начинали блестеть. Эдвину не казалось это настолько пугающим, как описывала миссис Дин. Только перед самым днем рождения Тимми, которому исполнялось семь лет, это по-настоящему обеспокоило его.
День был солнечным и довольно теплым. На улице играли дети, и в открытое окно влетал их громкий галдеж. Когда Тимми начал серьезно и сосредоточенно "слушать", вытягивая шею больше обычного, сцена была настолько очевидной, что Хопплер не сомневался: какие-то звуки с улицы проникают сквозь глухоту мальчика. Лаяла собака, кричали дети, кто-то заводил машину. Наверное, Тимми что-то услышал.
Мальчик расслабился. Его внимание снова вернулось к картинке, которую Эдвин рисовал для него. Через несколько секунд раздался пронзительный предсмертный визг, резко оборвавшийся на высокой ноте. Во встревоженном шуме детских голосов появился страх. Захлопали окна. Недолгое замешательство прорезал вопль маленькой девочки. "Он умер! А-а-а! а-а-а! Его задавила машина! Черныш умер!"
Хопплер отложил карандаш и посмотрел на Тимми. Серые глаза мальчика настороженно — в нем всегда было что-то по-птичьи настороженное — изучали рисунок. Он взглянул на Эдвина и неуверенно улыбнулся.
Реакция была естественной. Тимми просто не слышал криков с улицы и не мог понять, почему его друг остановился. Но Эдвин приложил пальцы к губам и нахмурился. Тимми не слышал ни визга собаки, ни криков, когда все это произошло. Может быть, он слышал их до этого? Трудно было поверить. Но похоже было на то.
Хопплер закончил рисунок — дети, переходящие кое-как нацарапанный ручей, — и отдал его Тимми. Тимми аккуратно сложил его и легонько хмыкнул, что означало у него удовольствие. Он направился к двери, но затем вернулся и осторожно провел пальцем по руке Эдвина. Это была одна из его манер, обаятельных и трогательных одновременно, за которые Эдвин полюбил его. Но в этот раз он заметил, что вздрогнул от прикосновения. Когда Тимми вышел, Хопплер нервным движением прижал руки к груди.
Прошел почти месяц, когда Тимми снова "прислушался". Хопплер сидел в кресле, а Тимми, лежа на полу, рисовал большую панораму уличной жизни на листе оберточной бумаги, принесенной из кухни. Он рисовал с воодушевлением, изображая непомерно больших людей и собак рядом с маленькими горбатыми автомобилями. То и дело он хмурился, когда его карандаш рвал бумагу, утыкаясь в мягкий ковер. В пансионе было тихо, не считая отдаленного звона посуды, доносившегося из кухни, где после ужина мыли кастрюли и сковородки.
Вдруг Тимми поднялся. Быстро взглянув на Хопплера, он остановил свой взгляд на точке в пяти или шести футах над его головой. Рот у него открылся. Шея вытянулась. Глаза расширились.