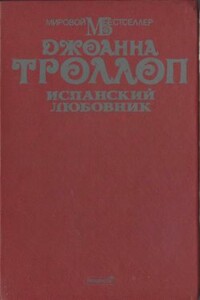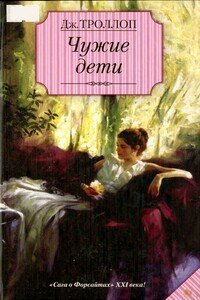Вид, открывавшийся из их окон — георгианских, огромных, от пола до потолка, — был, по всеобщему мнению, поистине великолепен. Окна выходили в старинный парк, спланированный и разбитый два столетия назад с единственной целью — предоставить счастливым владельцам Норленда в Сассексе все лучшее, что может предложить природа, облагороженная цивилизованной человеческой рукой. Были там и бескрайние зеленые луга, и романтические, но не слишком обширные озера, и тенистые купы вековых деревьев, под которыми щипали траву живописные группки оленей и овец. Добавьте к этому ненавязчивые рукотворные вкрапления в виде изящных парковых оград, и станет ясно, что картина, которую наблюдали сейчас все члены семьи Дэшвуд, сидевшие в тягостном молчании у себя в кухне, была практически совершенна.
— И вот теперь, — заговорила мать семейства, театральным жестом простирая руку к кухонному окну, — мы вынуждены покинуть все это. Весь этот… рай!
Она сделала паузу, а потом добавила, уже тише, но с явственным нажимом:
— Из-за нее.
Все три дочери смотрели на нее, не произнося ни слова. Даже средняя, Марианна, унаследовавшая материнскую склонность к мелодраматизму и природную импульсивность, сидела молча: всем было ясно, что мать еще не закончила. В ожидании продолжения они отвели взгляды от вида за окном, сосредоточившись на чисто выскобленной поверхности кухонного стола, глиняном кувшине с незатейливыми полевыми цветами и своих надтреснутых и потому еще более очаровательных чайных кружках. Все затаили дыхание, дожидаясь следующей материнской тирады.
Белл Дэшвуд по-прежнему смотрела в окно. Своим именем она была обязана отцу девочек, скоропостижно скончавшемуся совсем недавно. Он говорил — в свойственной ему галантной манере, — что имя Белл идет ей гораздо больше, к тому же Изабелла, хоть и звучит величественно, не очень-то годится для повседневного обихода.
Вот так Изабелла, больше двадцати лет тому назад, превратилась в Белл. А со временем, постепенно и незаметно, и в Белл Дэшвуд, жену (на словах) Генри Дэшвуда и мать (на деле) Элинор, Марианны и Маргарет. У них была, по всеобщему мнению, чудесная семья: добродушный зрелый мужчина, его очаровательная художница-жена и их хорошенькие дочки. Благодаря своей общительности и внешнему обаянию Дэшвуды обзавелись множеством друзей, так что, когда Генри внезапно улыбнулась удача, и его вместе с Белл и дочерьми пригласили поселиться в большом поместье у бездетного дядюшки-холостяка, единственным наследником которого он являлся, им было с кем разделить эту радость. Смену их хотя и счастливого, но совсем уж скудного существования на жизнь в Норленд-парке, с бесчисленным количеством спален и акров прилегающей земли, они восприняли как знак свыше, аргумент в пользу веры в волшебство и строительства воздушных замков.
Старый Генри Дэшвуд, дядя младшего Генри, оказался таким же мечтателем и романтиком. Он снискал любовь всей округи, для которой являлся кем-то вроде самопровозглашенного сквайра: от его щедрот финансировалось большинство начинаний местной общины, а двери Норленда всегда были распахнуты для любых благотворительных мероприятий. Старик прожил в Норленде всю свою жизнь, под крылышком незамужней сестры, и только после ее смерти понял, что дом слишком велик для него одного. Вслед за этим осознанием незамедлительно явилось и воспоминание о наличии и незавидном положении его славного, но незадачливого наследника, племянника Генри, единственного сына их давно почившей в Бозе младшей сестры: по последним сведениям, тот жил на грани нищеты, что, по мнению старого Дэшвуда, было абсолютно недопустимо. Итак, молодого Генри призвали для аудиенции, и он прибыл в Норленд в сопровождении очаровательной спутницы и, к вящей радости старика, трех девчушек, одна из которых была еще в пеленках. Семейство сбилось в кучку в гигантском холле Норленда, с изумлением и восторгом озираясь по сторонам, и старый Генри, повинуясь внезапному импульсу, широко распростер объятия и провозгласил, что, отныне и навеки, Норленд является их домом, куда они должны как можно скорее переехать, чтобы жить вместе с ним.
— Для меня будет счастьем, — сказал он голосом, дрожащим от избытка чувств, — видеть, что в Норленде снова кипит жизнь.
А потом, прослезившись, добавил:
— И смотреть на кучу обуви у парадной двери. Дорогие мои! О, мои дорогие!
Элинор сглотнула, пристально глядя на мать, которая так и стояла с поднятой рукой. Нельзя позволить ей слишком уж расчувствоваться, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы разволновалась Марианна. У Белл, конечно, не было астмы, от которой умер отец Элинор, Генри-младший, и из-за которой Марианна росла такой болезненной и хрупкой, однако ей все равно не стоило давать волю, поскольку в таких случаях все обычно кончалось весьма плачевно. То есть, в буквальном смысле, слезами. Элинор порой поражалась тому, сколько времени и сил члены их семьи тратили на слезы. Она негромко кашлянула, напоминая матери, что все они ждут.
Белл едва заметно вздрогнула. Она отвела взгляд от гигантской тени, которую дом отбрасывал на лужайку за окном, и вздохнула. А потом почти мечтательно произнесла: