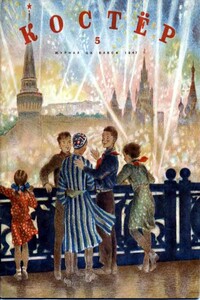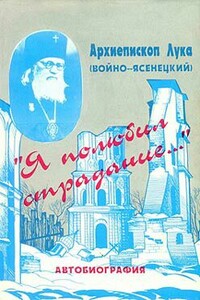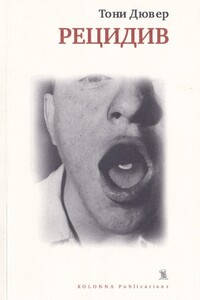В ночь со второго на третье
Перевод Е. Серебро
Нередко случается, что люди говорят о точном дне и моменте своего преображения или называют точное время, когда началась влюбленность.
Таким же образом я могу показать место в календаре — а в этом случае и на карте, — где моя жизнь раскололась пополам, раз и навсегда и окончательно. До этого она была довольно цельной, никогда не простой, постоянно уязвимой, но все же по своей структуре весьма похожей на жизнь других людей. С тех пор линия моей жизни, вычерченная геометрически, стала буквой «Y».
Я снял на лето дом в маленьком рыбачьем поселке в бухте Ханёбуктен, недалеко от Кристианстада. Мой друг, директор местного краеведческого музея, находился на раскопках под Чивита Веккиа и благородно предоставил свой летний дом в мое распоряжение.
Это был старый рыбачий дом, построенный из камня и побеленный известью; уже в начале века он был отдан дачникам и поэтому потерял часть той грубой простоты, которой отличались береговые постройки. Земляные и каменные полы были покрыты линолеумом. Большой каменный очаг, в котором прежде выпекали хлеб, готовили пищу и которым обогревались, сначала заменили обыкновенной дровяной печью, а потом электроплитой, снабженной современной кухонной вытяжкой и полкой из тикового дерева для банок со специями.
И все же что-то в расположении дома, прижавшегося к другим домам на крошечной деревенской улочке, в тени двух черных вязов и под защитой выцветшего серебристо-серого лодочного сарая, вызывало у меня чувство, будто я перенесся в другое столетие. Длинными солнечными днями я играл в Робинзона Крузо, только что выброшенного на берег необитаемого острова; лишь новости, и в первую очередь газеты, напоминали мне о моей профессии. Я вынул из чемодана только самое необходимое: пару поношенных джинсов и два свитера. Вся более городская одежда лежала без употребления. Ходил я босиком, за исключением тех немногих случаев, когда отправлялся на машине в Симрисхамн пополнить запасы еды и вина.
Теперь относительно места в календаре: это было в ночь со второго на третье августа 1980 года. Турпаны, сбившись в черные неуклюжие стаи, так близко подлетали к воде, что я принял их за дельфинов. Сорочай на своих тонких, покрытых красным лаком ногах бродил по грязи, выброшенной первым осенним штормом. Водоросли остро запахли гнилью, и казалось, будто клочья тумана застряли на изгородях, на кустах бузины и еще долго оставались там после того, как вставало солнце и разгоняло их: то были тысячи осенних паутинок, видимых благодаря каплям росы.
Нередко ясно и тепло становилось только часам к одиннадцати. Тогда солнце масляно-желто светило наперегонки с плоскими головками цветов пижмы у дома, и я со своим утренним кофе и трубкой, пренебрегая зеленой летней скамьей перед домом, сидел на старой корзине для рыбы с подветренной стороны у лодочного сарая и смотрел на южный берег залива Ханёбуктен. Иногда по утрам Борнхольм возлежал на горизонте, круглый, величиной с кита; в другие утра он исчезал в неведомых широтах.
К вечеру второго августа поднялся ветер, разбушевавшиеся волны, шипя, сбивали белую пену над темно-синей августовской водой. В сумерках море гремело как несмолкающий гром. По своему радио я услышал предупреждения о шторме именно на юге залива Ханёбуктен и, ложась в постель в нише не слишком обустроенного чердака, оставил окно только чуть-чуть приоткрытым.
Убаюканный ритмичными ударами волн, я заснул под «Воспоминания эгоиста» и проснулся лишь на минуту, тут же погасил лампу и повернулся на другой бок.
Второй прекрасный сон — если бы он был товаром, он бы получил высшую оценку благодаря своей крепости и прочности — был прерван на рассвете странным звуком.
По ночам в деревне и в окружающей ее вересковой пустоши, где стоял мой дом, было слышно прежде всего, как плескались, как стонали набегающие волны — звуки моря были всегда ритмичны, словно удары сердца гигантского млекопитающего. Затем кричали петухи — шестичасовые горластые и спесивые петухи моего ближайшего соседа-рыбака и карликовые на другом конце деревни, принадлежавшие семье дачников. И наконец, порой ухали совы, кричали сонные дрозды, мычали коровы и где-то вдали со свистом проносились к шоссе ранние машины.
Забыл ли я какой-нибудь звук или крик? Попытаюсь вспомнить… Да, электрический насос, который подавал воду в душ, туалет и кухню, мог взять да застонать или закашлять, хотя никто не претендовал на его услуги.
Я приподнялся на локте и прислушался. Ветер усилился, но я сказал себе, что еще очень не скоро жители рыбачьего поселка начнут говорить о шторме. Оба вяза крутили и качали ветвями, словно пытаясь освободиться от листьев, а ветер гнул и трепал их с такою силой, что казалось, вот-вот вывернет с корнями. Окно билось на коротком поводке. Буруны кидались на прибрежные скалы и ревели в постоянном крещендо.
Когда на мгновение рев стихал, с моря доносились громкие крики.
Кто мог так кричать глубокой ночью? Кто-то из деревни? Это было исключено. Правда, однажды в начале лета маленький дачник с перепугу заорал благим матом. Он проснулся один и не мог найти свою маму, которая играла в бридж в доме через дорогу. Но это было исключением. Деревня была местом тихим и покойным.