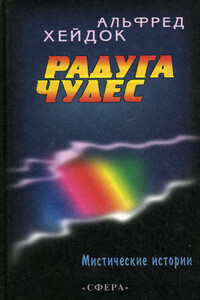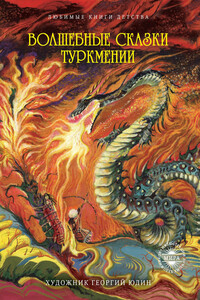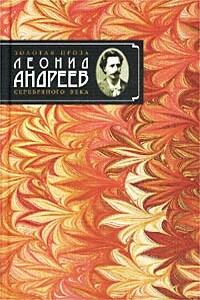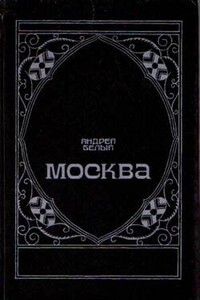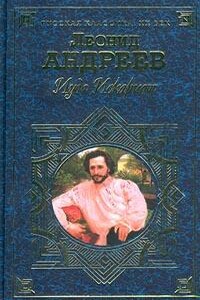Мне тогда лет девятнадцать было. Отец вздумал новую избу ставить — вот эту самую, в которой теперь сидим. Да денег малость не хватало. Дед Сафрон вызвался сгонять плот в низовье да в городе продать — деньги будут. Зимою лес наготовили и к лету, когда в наших сибирских реках сильные паводки бывают, плот снарядили. В середине, как водится, шалаш из коры поставили, печурку соорудили. Дед туда картошки натолкал и прочую снедь, а я так даже гармонь прихватил. Отвалили вдвоем с дедом, да вскоре на корягу наскочили, никак не можем отцепиться, пришлось самим в холодную воду лезть да немало там повозиться. Снялись — поплыли. Мне-то от этого купанья ничего не сделалось, только за ужином вдвое против прежнего картошки съел, а у деда сильно поясницу заломило. Он и керосином натирал — помогало мало, лежит-охает. Тут деревенька на берегу оказалась. Дед и говорит:
— День субботний. Люди бани топят. Пойду к людям, где-нибудь попарюсь и в тепле переночую. А ты плот карауль. Завтра утром приду.
А мне что? Тоже не прочь отдохнуть — пока что к гармошке не притронулся: некогда было. А тут места дивные: сопки по берегам, как курчавой шкурой, лесом одеты. А на берегу, немного выше того места, где мы с плотом приткнулись, высокий коричневый утес так и горел на закатном солнышке.
Гармошку достал, сел на плот — играть и петь песни захотелось. Кругом тишина такая, только вода плещется и рыба нет-нет с подскоком бултыхнется. Наигрываю и напеваю «По диким степям Забайкалья», вдруг заметил что-то алое на вершине утеса. Перестал играть, присмотрелся — вроде девка в алом сарафане на утесе стоит.
Глаз у меня зоркий, особенно если я через сложенные кулаки как через трубу смотрю. Гляжу — веночек из цветов у нее на голове, и молча на закатное солнце глядит. Постояла, сняла веночек, волосы распустила. Потом перекрестилась и прыгнула в реку. Как красная птица, алой дугой летела.
Вот спроси меня, что думал в тот миг, и я отвечу, что не знаю. Руки и ноги, как машины, сами собой заработали. Скинул с себя все и бултыхнулся в воду. Одно сообразил — течением ее в сторону нашего плота понесет. Поплыл навстречу и нырнул. Если б не алый сарафан, проглядел бы девку. Я уже задыхался, думал, что легкие у меня лопнут, как увидел ее. За волосы утопленницу схватил и из последних сил поволок к плоту. Втащил на плот — не дышит.
Ну что мне с нею делать? Я не доктор и не фельдшер. Слыхал, что надо сперва из утопленника всю воду вылить. Взял ее за лодыжки и приподнял головой вниз. И действительно, вода вытекла. Положил ее навзничь. Прилипшее к телу платье сдвинулось вверх. Оголился белый, тонкий девичий стан. Крутобедрая, высокогрудая девушка лежала предо мной, и капли воды, точно застывшие слезы, мерцали в ее длинных ресницах. А на лице, на губах такая горечь, такая обида залегла, что и сказать невозможно. Точно была она приглашена на богатую свадьбу и долго к ней готовилась, новое платье сшила и с радостным ожиданием счастья, с цветами в руках пошла на этот званый вечер, но осмеяли ее, с порога прогнали, оскорбили и вслед наплевали.
И так мне стало жаль ее, что не знаю, чего не отдал бы, лишь бы вернуть ее к жизни, лишь бы заулыбались эти искаженные горечью губы.
И взялся я за нее, руки и ноги туда-сюда разводил, и на грудь надавливал, обжимал, и рот к ее рту прикладывал — пытался дыханием воздух в легкие протолкнуть. Знал, что тут каждая секунда дорога. Но не поддавалась она, точно ее не к жизни, а больше к смерти тянуло. Солнышко уже заходило, я совсем измучился, как вдруг — задышала. Вот уж тут, скажу, не было у меня в жизни большей радости. Уволок ее в шалаш на дедушкину постель, его полушубком укрыл — пусть отсыпается.
Сам решил еще какое-то время не ложиться — вдруг что-нибудь понадобится, но вскоре, сам не помню как, заснул.
Хороша молодость тем, что как заснешь, так без просыпу до утра. Не то, что в старости: ворочаешься, да еще встаешь и куришь.
Когда я проснулся, моя утопленница не спала, а сидела на постели, и лицо у нее хмурое-хмурое. Только я на нее взглянул, спросила:
— Ты меня из воды вытащил?
— Да вроде больше некому, — пытался я пошутить. Сказать «я» как-то зазорно показалось, как хвастовство: вот, мол, твой спаситель — знай и уважай…
Но ответа никакого не последовало — сидит хмурая-хмурая. Даже обидно стало: спасибо-то могла сказать.
Надоела мне молчанка, и говорю:
— Когда думаешь домой идти — сейчас или вот сварганю завтрак, покушаешь и пойдешь?
Она помолчала и вдруг отвечает:
— Никуда я не пойду — здесь останусь.
Я вытаращил глаза. А она продолжает:
— А не хочешь, чтоб я осталась, пихни обратно в воду, откуда вытащил. Я сопротивляться не стану.
Я опешил да забормотал совсем нескладно, что по мне хоть век живи с нами. Я рад. Да вот что дед скажет, когда вернется.
Сварил завтрак — сам поел, и она поела. Молчит, на расспросы не отвечает.
Солнышко уже было высоко, когда на берегу дед показался. Я издали его заметил и пошел навстречу, чтоб заранее рассказать, разжалобить деда, как бы он девушку не обидел. Дед выслушал меня, ничего не сказал, а как вступил на плот и увидел ее, обернулся ко мне и уронил всего два слова: