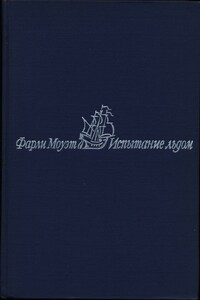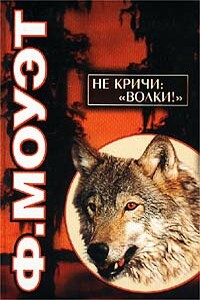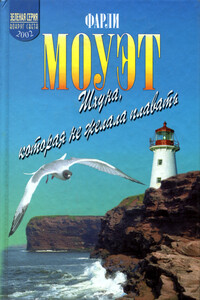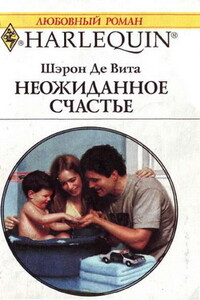Рассказ о знаменитом походе, составленный Фарли Моуэтом по дневникам Сэмюэла Хирна
Августовским днем 1947 года мы с Охото добрались на каноэ до большого озера Ангикуни, что находится в самом сердце Бесплодных земель[1] Киватина[2]. Солнце яростно палило, как нередко случается летом в высоких северных широтах, и некуда было скрыться от его долго копивших силу лучей — все вокруг было голо, как обглоданный скелет. Мы медленно выплыли в безветренный залив, и очертания необитаемых берегов растворились: впереди расстилался безграничный простор белесых вод, из которых огромное солнце высосало все краски и всю жизнь.
Далеко, в южной части озера, между распростертыми навстречу нам отрогами поднималась голая скала. Эскимос вдруг поднял весло и, указав им на эту едва видневшуюся скалу, воскликнул: «Тут были люди!»
Щурясь от слепящего солнца, я разглядел замеченный им знак. Над поверхностью дикого мрачного камня с трещинами от сильных морозов слегка возвышалась невзрачная каменная пирамидка; на плоском островке она была словно маяк, установленный, чтобы приободрить нас в нашем одиночестве.
Мы быстро заработали веслами, а когда достигли берега, увидели следы множества людей, побывавших здесь до нас. Тысячи лет стада карибу — животворного начала этих мест — пользовались скалой как ступенькой в их кочевьях на юг в далекие леса и обратно. Не всегда им удавалось проделать весь путь невредимыми, об этом говорила расставленная по гребню островка череда гранитных столбов, издали напоминающих человека, которые предназначались для того, чтобы направить стадо к засадам лучников, предков Охото.
Совершенно очевидно, что здесь бывали эскимосы озерного края. Но еще до них тут бывали и другие люди, потому что в одной из трещин в камне мы обнаружили втиснутый туда кусочек хрупкой бересты. Вырезанный за три сотни миль отсюда, там, где лежит граница лесов, он был перенесен сюда теперь уже почти забытыми индейцами тундры.
Перебравшись через каменные позвонки хребта острова, мы подошли к пирамиде. Это была приземистая горка камней, не выше роста человека, но она царила над всем вокруг, ибо, хотя и была сложена из того же камня, казалась чем-то чужеродным. Она не имела ничего общего с теми едва заметными следами, что оставили по себе жившие в тундре народы. Вне всякого сомнения, пирамидка была делом рук чужеземца, и доказательством тому оказалась находка под плоским камнем в ее основании. Я взял найденный предмет — полурассыпавшиеся дощечки дубовой шкатулки — в руки, и тут время исчезло.
Я словно воочию увидел белого человека, бредущего на восток по бесконечной равнине: подобно парии, он следовал за группой безразличных к его участи индейцев-кочевников. Видел, как он возводил этот символ непобедимости своего духа на крошечном островке посреди неведомого озера. Будто стоя рядом с ним, я наблюдал, как на бумагу ложились скупые слова его рассказа о своей суровой судьбе, которые он спешил записать, прежде чем опять пустится в путь, не суливший ему ничего, кроме жестокой борьбы за выживание.
Я узнал его, потому что в прежние времена лишь один европеец отважился проникнуть в открытые всем ветрам унылые просторы тундры и по сей день носящие данное им название — Бесплодные земли. Несколькими месяцами раньше я прочел его имя, высеченное им собственноручно на серой скале при впадении реки Черчилл в Гудзонов залив. И если в пирамидке на озере Ангикуни слова были стерты временем, то там они остались в нетронутом виде, как были высечены в свободные от дел часы летнего дня за два года до начала знаменитого похода:
S l Hearne
July ye 1, 1767[3]
А поход тот поистине был великим. За 1769–1772 годы Сэмюэл Хирн исследовал более четверти миллиона квадратных миль безлесных равнин, венчающих Северо-Американский континент. Он был первым европейцем, которому удалось достичь огромной дуги Арктического побережья, растянувшейся к западу от Гудзонова залива до вод, омывающих Сибирь. Не имея других спутников, кроме безразличных к его судьбе, а то и враждебных индейцев, он прошел около пяти тысяч миль по одному из наиболее труднодоступных участков земного шара, где природа столь сурова, что лишь в 20-е годы XX века на землю самого дальнего из описанных им районов ступил вновь белый человек. Дважды враждебность природы и людей наносили ему поражение, и все же он нашел в себе силы вернуться, чтобы на третий раз выйти победителем.
Но это лишь видимое глазу измерение величия. И хотя перечисленные достижения сами по себе достаточно впечатляют, они не отражают всей глубины и всей силы духа этого человека. Ведь способность открывать одно за другим новые моря и озера, реки и заливы, горы и равнины составляет лишь малую толику в мере величия землепроходца. Если некоторые черты векового лика земли не будут открыты одним поколением, то почти неизменными они встретят следующее.
Но лишь живые черты неизведанной страны, неприметные колебания их граней, обусловленные самим непостоянством жизни, — подлинное откровение новооткрытых миров. Именно их должен отмечать и закреплять на бумаге наблюдатель, причем не как мертвые застывшие факты, а как проявление вечно изменяющейся жизни. И способность сделать бессмертными эти преходящие черты под силу только талантливому человеку. Хирн обладал таким талантом: он смог обмануть ход времени и донести до нас живой облик исчезнувшего мира.