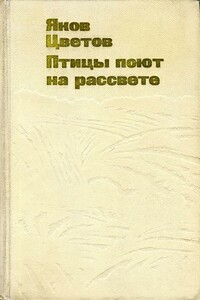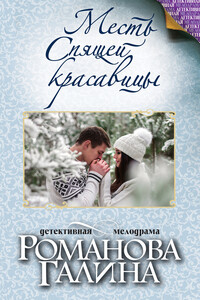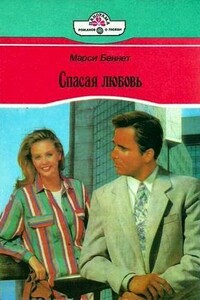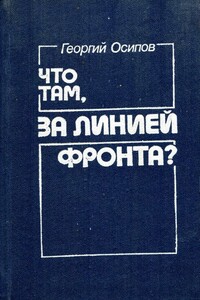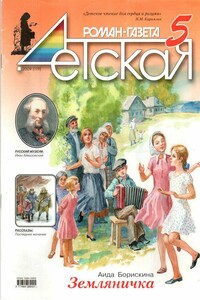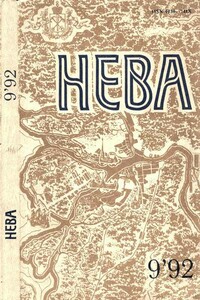Синь-озеры…
Глухие, тесные леса и перелески, всегда полные тьмы, слоено ночь никогда не уходит оттуда, и тихие поляны, укрывшиеся в них, длинные, глубокие овраги, безвестные речушки, и болотины, и звериные тропки, которые никуда не ведут. Здесь, в краю Синь-озерском, живут и действуют мои герои — и те, с кем судьба действительно соединила меня, и те, что вызваны к жизни моим воображением. Это десантники, разведчики, подрывники, подпольщики. Их мучила общая беда, и надежда была у них одна, и вера, питающая эту надежду.
Бывает, мне приходит в голову, что все горькое и страшное, происшедшее со мной, с моими товарищами в военные годы, выдумано во время болезни или в горе… Да и то, горя было тогда много. Оно заполнило всю нашу жизнь, вот так же, как тучи заволакивают небо, и небо уже не цвета радостной сини, а тяжелое, черное.
Человек ничего не может выдумать, если нет этого в нем самом и в том, что его окружает. Все в чем-то берет свое начало. И Синь-озеры тоже не выдуманы вовсе, хоть местность эта ни на какой карте не обозначена.
Может быть, осенью сурового сорок первого возникли они во мне, когда под огнем шли мы на Барышевскую переправу, переходили Трубеж-реку, шли на горевшие Березанские хутора, через Яготинские болота и, наткнувшись на крепкие гитлеровские заслоны, поворачивали обратно и с боями пробивались на север, в Полесье. Петлистая, долгая, трудная дорога из окруженного врагом Киева. На дороге этой тысячи остались навсегда. Удивительно, сколько может поглотить земля! Как мало нужно жизни, думали мы, — хлеб и вода, и вот это небо, накрывавшее нас. И как много требует смерть: пули, окопы, перебежки по обстреливаемому полю, снаряды, ракеты, бомбы, развалины, могилы… Осень стояла тогда дождливая, сумрачная, казалось, весь мир покрыт тучами, и потому так темно. А там, в той стороне, куда мы шли, далеко, чуть виднелись просветы во мгле — солнце все-таки было. Нельзя, чтоб умирала надежда, как нельзя, чтоб умирало сердце. А может быть, Синь-озеры появились потом, позже, — после госпиталя, после салюта Победы, после того, как жена упрятала, как бы навсегда, мою довольно потрепанную шинель…
Они давно покинули Синь-озеры, солдаты, партизаны, но все равно, я вижу их там, вижу их трудную опасную жизнь, и ничего, что теперь, случается, встречаю фронтовиков на улицах города, приезжаю в гости к ним в деревню. Это уже седые люди, их одолевают старые раны, и ревматизм, астма, миокардит, болезнь печени, атеросклероз… Иные из них опираются на палку, им тяжело передвигаться, по утрам у них желтоватые мешки под глазами, а ночью ноет поясница и они ворочаются в постели, чтоб утишить боль. Но это они, они неслись в атаки, на танках врывались в расположение противника, бомбили его войска и в тылу у него взрывали мосты, воинские эшелоны…
Сильная это жизнь — война, и только сильные люди могут жить в ней. И я вижу их такими, какими сохранила память — молодые, яростные, боевые, те самые, что принесли Родине вечную славу.
Годы, годы и годы спустя память возвращает в мою жизнь грозные видения войны, так явственно встают они предо мной, так тревожно, и я чувствую, как сердце бьется, будто происходит все это вот сейчас. Это видится еще отчетливей, чем тогда, словно убраны тени, и во всем ясная законченность. И потому, наверное, в облике героев — простых тружеников войны — мне открывается то, что ускользало и не давалось раньше.
И рука тянется к перу.
Пусть героический опыт выдержавших эту войну и победивших придает силы, внушает веру, если беда когда-нибудь ляжет на плечи тех, кто придет в мир после нас.