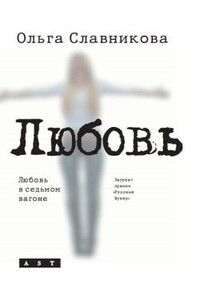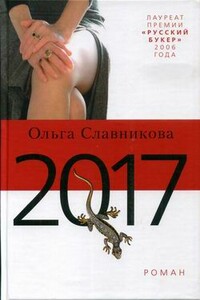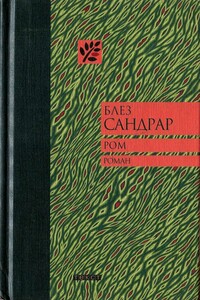Ольга СЛАВНИКОВА
ПРЫЖОК В ДЛИНУ
Роман
I.
В те давние времена, когда Олег Ведерников был восходящей звездой российской легкой атлетики (и когда у него, берущего разбег на дорожке прыжкового сектора, действительно будто бы горела во лбу белая влажная звезда), рост его равнялся одному метру восьмидесяти двум сантиметрам. Вот уже четырнадцать лет у него вообще нет роста — в обычном, человеческом понимании этого слова. Сверху Ведерников целый и даже как будто живой; внизу он словно растворяется в пространстве, исчезает, как исчезает, превращается в облачко, не достигнув тверди, слабая струйка песка. Словно кто спускает Ведерникова из горсти, развеивает по ветру. Правая нога (толчковая) у него ампутирована выше колена, левая (маховая) — по щиколотку.
Теперь Ведерников существует словно бы в воздухе, без прямоходящего контакта с земной поверхностью. В детстве, когда он рос, он летал во сне: мощно отталкивался от края какой-то туманной, с синими стенами, пропасти, черпал воздух емкими крыльями, чувствовал напряженным пером упругость восходящих воздушных потоков. Под ним расстилалась сизая, еловая, горная местность с удивительной, мягчайшей чертой горизонта — за которой таяла, все не могла растаять еще одна призрачная вершина, состоявшая как будто из того же космического снега, что и висевший над нею в дневной синеве ломтик луны. Во сне Ведерников всем существом стремился туда — и работал не столько крыльями, сколько неким внутренним, не известным науке органом: какая-то силовая паутина в животе, способная напрямую взаимодействовать с пространством.
Просыпаясь по утрам, Ведерников первым делом чувствовал, что эта паутина еще не успокоилась. Она трепыхалась, отдавала в ноги, заставляла, кое-как покидав учебники в рюкзак, бежать бегом, хотя до начала уроков оставалась уйма времени; она подмывала с разбега перемахивать через обширные, величаво разлегшиеся лужи, а зимой забираться на козырьки подъездов, чтобы прыгать с них в опасные сугробы, скрывавшие под нежной порошей твердые, как бетон, обломки слежавшегося снега, а то и куски арматуры. И все для того, чтобы в воздухе испытать ликующий толчок — безо всякой опоры еще вперед и вверх, и зависнуть при помощи живота, как в остановленном кино.
Впоследствии оказалось, что силовая паутина в животе есть не у всех. Первым особенности Ведерникова заметил не физрук, чьи водянистые глаза-пузыри видели только толстых девочек в тугих трико, а учитель физики Ван-Ваныч, наблюдавший за скаканиями Ведерникова с величайшим удивлением, собрав лоб горкой. Был Ван-Ваныч тощий, нескладный, с неодинаковыми ломаными бровями и большим кадыком, похожим на древесный гриб: из тех неспортивных людей, что физиологически боятся летящего мяча. Но у Ван-Ваныча имелась мать — бывшая балерина, и от нее наблюдательный физик знал про загадочное явление, которое у балетных называется «баллон». Эта важная, слегка оскаленная мумия два раза приходила в школу и очень уговаривала Ведерникова заниматься у нее в балетном классе. Но Ведерников не хотел танцевать, он хотел прыгать. Тогда, хлопотами Ван-Ваныча, Ведерников оказался в школе олимпийского резерва, куда надо было ездить сначала на метро, а потом на медленном, как корова, троллейбусе пять остановок.
* * *
У Ведерникова началась совершенно другая жизнь, главным человеком в ней стал тренер Александр Грошин, он же дядя Саня: на вид добродушный, большой, покатый, с коричневой печеной лысиной и черной шерстью на груди, где запутался, будто комар, мелкий православный крест. На самом деле тренер был жесткий мужик: не спускал ни лени, ни нарушения режима, провинившихся отправлял с тренировки работать на школьную кухню, где приходилось до ряби в глазах драить кафельные, в мелкую шашечку, полы и чистить целые горы черных дряблых овощей. Ведерников, которому обычно доставалось отмывать поросшую жирной коростой чугунную плиту, долго считал, что дядя Саня ненавидит его лично: за то, что явился в середине года, за опоздания, происходившие зимой по причине поломки троллейбусов, стоявших иногда целыми порожними стадами в метельном дыму, уронив на спины бессильные рога. Но однажды Ведерников вдруг увидал глаза дяди Сани, какими он наблюдал за его, Ведерникова, растопыренным полетом над скособоченным матом: глаза эти, обычно тусклые, сияли промытой синевой и были исполнены какого-то нежного удивления, несмелого вопроса. Ведерников так опешил, что даже пропустил момент, когда надо было подвытянуться в воздухе, и плюхнулся на вялый мат, точно его снизу дернули.
С той тренировки дела у Ведерникова пошли иначе. Откуда-то он понимал, что несмелый вопрос дяди Сани был адресован высшей инстанции, вроде как судьбе — но дяде Сане почему-то не дано обратиться туда напрямую. Задачей Ведерникова стало — получить ответ. Тогда он сам начал разбираться со своей дурной и шалой, во все стороны направленной энергией, заставлявшей его скакать, орать, лазать на толстую, как снежная баба, под самыми окнами учительской росшую березу, совершать другие бессмысленные подвиги — в общем, вести себя как полный придурок. Постепенно он привык собирать себя на дорожке в линию, научился рассчитывать разбег — как бы отделять от себя другого, призрачного Ведерникова и пускать его задом наперед от доски отталкивания до старта, мышцами запоминая порядок подлетающих, как на Луне, замедленных шагов.