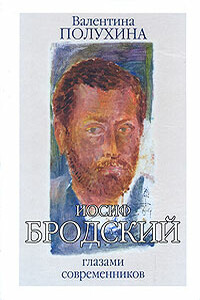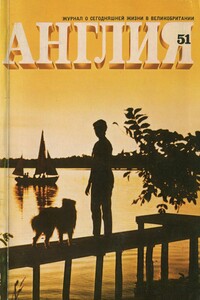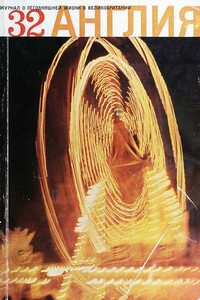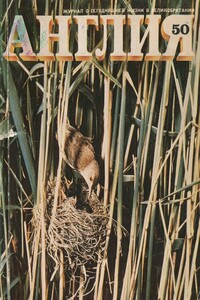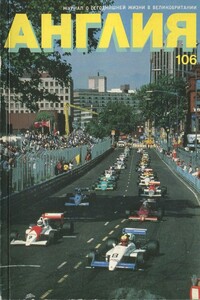Хелен Хэрис
Продавец сластей на автобусном вокзале
Продавец сластей на автобусном вокзале потом, много лет спустя, их разочаровал. Он был единственной яркой точкой в монотонных поездках домой, когда загородные девочки покупали сыр, и луковый хрустящий картофель, и мороженое, в ожидании прихода номера 269 в Уиттенден и Кокстепль, а городские девочки слонялись по автостоянке, чувствуя необъяснимую обделенность из-за лишнего получаса сплетен, предстоявшего загородным (да к тому же, как они подозревали, совместного приготовления уроков), и плевались на гудрон изумрудно-зеленой слюной. Продавец сластей был, если подумать (чего они не делали), практически единственным мужчиной в их ученической жизни. Был еще священник, но он был не мужчина, во всяком случае не совсем, и был садовник Берт с глазами-липучками, но он не шел в счет; уже и без того отделенный от них непреодолимой социальной пропастью, подобострастно подстригающий лужайку на всем виду у урока истории. Только продавец сластей закатывал свои хитрые глаза, когда они покупали у него «Уолнат-Уипы»[1], и как будто гладил им ладошки монетами («Фу, гадость какая!»), давая сдачу.
Другой кондитерской лавочки на автобусном вокзале не было, но даже если бы и была, они бы, наверное, в нее не ходили. Годы спустя, приезжая домой на уикенды из Лондона, они видели в пассаже шикарное новое кафе под названием «Бинэ» и воображали, что завидуют нынешним девочкам из школы, умудренно грызшим под навесом в ожидании автобуса овсяные пряники из неочищенной муки и «здоровые» шоколадки. Но на самом деле они им нисколько не завидовали. Их собственные школьные годы возвышались над обыденностью благодаря таинственной притягательности продавца сластей.
Лавочка его не имела названия.
Она, собственно говоря, и зданием-то не была. Это было нечто белое и продолговатое, доставленное когда-то на грузовике и сваленное у автостоянки, как увечный автомобиль. Внутри полки были уставлены шоколадками и тянучками. Когда девочек набиралось в лавке больше четырех, дверь уже нельзя было открыть. У него была своя комната за лавочкой, где он неизвестно что делал. Он всегда был там, когда они приходили, в четыре двадцать (или в четыре двадцать пять, если последним уроком были спортивные игры), и всегда их на мгновение охватывал трепет предвкушения, прежде чем его тень падала на порог и слышалось его критическое покашливание.
«Опять сладенького захотелось?» — говорил он; а иногда не говорил, только выгибал бровь, будто сверля их форменные блейзеры своими остекленелыми голубыми глазами.
Мэри Ханнивел, лучшая в классе по-английскому, говорила, что он смотрит «плотоядно». Но «плотоядно» было странное и безобразное слово, а в чувстве, которое у них вызывали его помятые щеки, не было ничего безобразного. Мэри Ханнивел знала слова про все: «убогая» — это о лавочке, «ребячество» — о сладостях. Некоторым из них смутно хотелось, чтобы Мэри Ханнивел не заходила в лавочку, а оставалась снаружи, на автостоянке. Но она покупала сладостей больше всех, и как-то особенно по-зверски вгрызалась в их податливую, тягучую сладость. Да еще иногда и дерзила продавцу. «Ну, так как насчет скидки? На почте ведь дешевле».
В один из таких случаев продавец сластей как раз и задержал ее испачканные чернилами пальцы со сдачей и прошептал: «А что мне за это будет, дорогуша?» В уголках губ у него выступила белая слюна.
«Фу, гадость!» — вскрикнула Мэри Ханнивел, отдергивая руку, и они все, задыхаясь, высыпали с восклицаниями на автостоянку, и половина винила во всем Мэри Ханнивел, а половина — продавца сластей.
После этого они решили, что он наверняка извращенец. У него было обычное, тонкое лицо, обычная одежда. Но что-то было явно подозрительное в его крошечной лавочке, с усыпляющим запахом каучука и хрустящей бумагой, что-то, что вызывало у них потребность заходить туда каждый день учебной четверти.
В потолке было окошко, из которого лился тусклый серый свет. В дождливые дни дождь шумел над головой, как уборная. А картонные коробки на полках стояли так тесно, что они бесконечно выбирали и не могли решить, что выбрать.
До Уиттендена было 13 км, до Кокстепля — 16. У загородных девочек получалась масса времени на разговоры о продавце сластей. Они намекали городским, что с водителем автобуса — слизняком Питом с прилизанными волосами — тоже не все в порядке. Но за ним нельзя было наблюдать всем сразу, поэтому он так и не привился. Да и вообще он был недостаточно взрослым.
На длинном заднем сиденье велись захватывающие разговоры. Сигаретный дым, тела и корзинки с продуктами прочной стеной отделяли их от благовоспитанности. Они открыто обсуждали странности учительниц и легковесные секреты, таившиеся в партах соучениц. Иногда, как раз перед остановкой в Уиттендене, они доходили до отчаянейших признаний, за которыми следовали выкрикивавшиеся на весь автобус обещания никому не говорить. Но неизвестно, почему сказанное никогда дальше не шло. И в школе никто ни разу не сказал, что девочки, ездящие домой на 268-м, всегда лучше готовят уроки и часто пишут сочинения на похожие темы. Возможно, в учительской это относили за счет более плотного завтрака и деревенского воздуха.