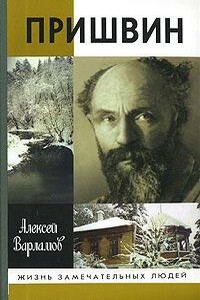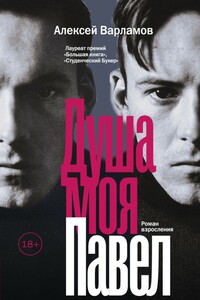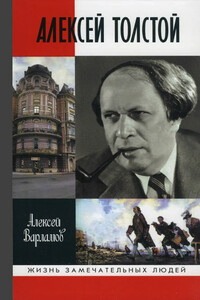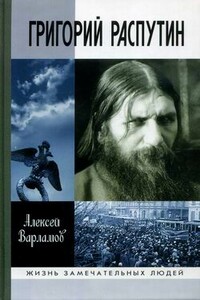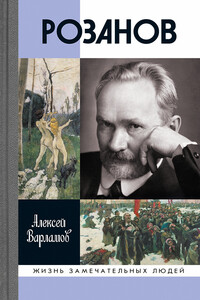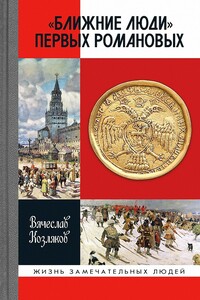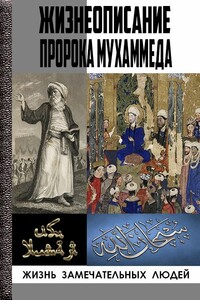У этой книги несколько героев. Самый главный – конечно, тот, чье имя вынесено на переплет. Но человек этот обладал такими удивительными свойствами, так хорошо знал природу вещей, людей, деревьев, птиц и зверей, так умел прятаться и маскироваться, что голыми руками его не взять. И я, принимаясь за книгу, не знал, чем она окончится и куда заведет меня мой загадочный персонаж, сумею ли понять его и проникнуть в его тайну.
Казалось бы, чего проще – перед нами восемь томов его сочинений, и среди них добрая половина автобиографических, несколько книг его жены Валерии Дмитриевны и книга воспоминаний о нем. Наконец, перед нами четыре изданных тома его дневников, охватывающих период с 1914 по 1925 год (всего этих томов должно быть двадцать пять!). Писали о нем многие замечательные русские и советские поэты и прозаики (хотя, как увидим дальше, писали весьма противоречиво), высоко ценили критики, литературоведы и литературные начальники.
С легкой руки некоторых из них в нашем сознании долгое время существовала легенда о Пришвине как тайновидце, волхве и знатоке природы. Однако сам Пришвин признавался, что пейзажей не любит и писать их стыдится. И пишет вообще о другом. А место свое в литературе определил так: «Розанов – послесловие русской литературы, я – бесплатное приложение. И все…»[1]
Сказано это было в 1937 году, что в комментариях не нуждается. И так возникает еще один сюжет и еще один герой – Василий Васильевич Розанов, образ которого тянется через долгие годы пришвинской жизни. Культура развивается в диалоге, и Пришвин, хотя и стоял особняком в литературе (даже дачи в Переделкине у него не было, не участвовал он в писательских комиссиях, разве что в Малеевке бывал иногда), не исключение, а скорее подтверждение этого правила. Писатель, которого с легкой руки законодательницы высокой литературной моды начала века Зинаиды Николаевны Гиппиус часто упрекали в безчеловечности, болезненном самолюбии и самолюбовании, был насквозь диалогичен, и только через диалоги и полемику может быть оценен и понят. Поэтому писать о Пришвине – это писать об эпохе, в которой он жил, и о людях, с которыми он спорил, у кого учился, кого любил и кого недолюбливал. Это верно по отношению к биографии любого писателя, но к Пришвину приложимо вдвойне, потому что не одну, а несколько эпох прожил этот человек, родившийся в семидесятые годы XIX века и умерший в пятидесятые XX, много чему был свидетель и испытатель и все, что видел, кропотливо заносил в свой великий Дневник – главное и до сих пор не прочитанное произведение, бережно сохраненное для нас его женой Валерией Дмитриевной.
Традиционно принято считать, и эта точка зрения находит отражение во многих исследованиях, что творческий путь Пришвина – это путь от модернизма к реализму. Или так: от реализма к модернизму и опять к реализму. Но что-то здесь не сходится. Ни «Осударева дорога», ни «Корабельная чаща» не укладываются в рамки реализма, как бы широко и благожелательно мы это понятие ни толковали.
Пришвин, и в этом едва ли не главная его особенность, осознавая свою органическую связь со старой дореволюционной русской традицией («Старый писатель, как превосходный старый трамвай, но гордиться тут нечем советскому человеку – сделан при царском правительстве»[2]), полагал непременным условием таланта, сущностью его – чувство современности и уподоблял это чувство способности перелетных птиц ориентироваться в пространстве. В 1940 году он сказал: «Писатель должен обладать чувством времени. Когда он лишается этого чувства – он лишается всего, как продырявленный аэростат».[3]
Тем более удивительно, что в 1943 году в деревеньке Усолье под Переславлем-Залесским он записал в дневнике: «Вчитывался в Бунина и вдруг понял его, как самого близкого мне из всех русских писателей…
Бунин культурнее, но Пришвин самостоятельнее и сильнее. Оба они русские, но Бунин от дворян, а Пришвин от купцов».[4]
Появление Бунина на страницах пришвинского Дневника и закономерно, и неизбежно, и поразительно. Поразительно тем, что, в отличие от устремленного к современности Пришвина, Бунин до конца дней любил Россию древнюю, и чем древнее, тем она ему была дороже, и не переносил России новой, советской, которую пытался не только понять, но и принять Пришвин и которой служил если не он сам, то его любимые герои. А неизбежно имя Бунина в контексте пришвинского творчества потому, что здесь столкнулись не просто две крупные личности, два мировоззрения или даже два класса, но два русских времени: прошедшее и будущее.
Оба они принадлежали к одному поколению, были земляками и прожили долгие, хронологически совпадающие жизни; в судьбах этих писателей есть странное равновесие схожих и разительно отличных черт, внешних и внутренних совпадений, относящихся к детству и ранней молодости, и едва ли не первая и главная из них – бедность и неровные, изломанные отроческие годы, из которых трудно было выбиться в люди. Есть удивительные точки сближения в их дальнейшем творческом пути, поразителен их глубочайший диалог о России, русской революции, народе, вере в Бога, который заочно, сами того не ведая, вели они и в своих дневниках, и в художественной прозе.