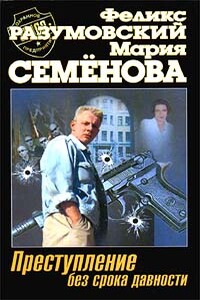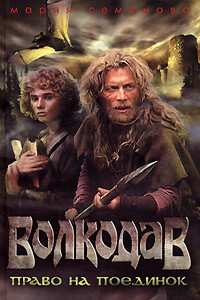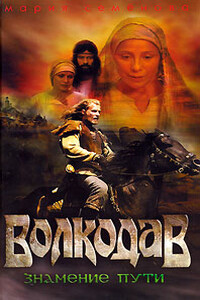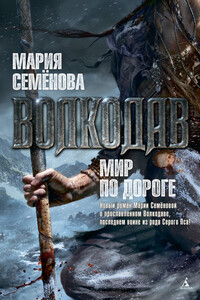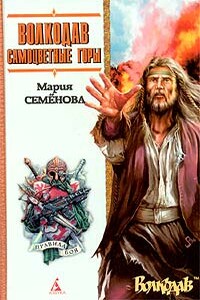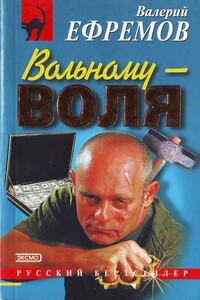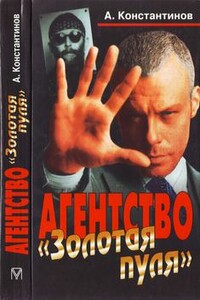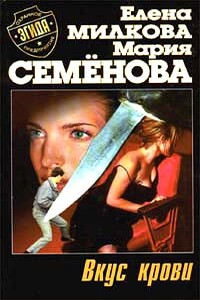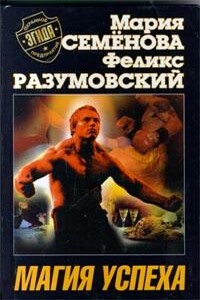Камера напоминала склеп. Забранное «неводом» окно отсутствовало, на цементной шубе, покрывавшей стены, проступали отвратительные бурые пятна, а к неизбежному в неволе смраду параши мешались запахи гниющей заживо плоти. Временами неподалеку раздавались звуки ударов, слышались человеческие крики, однако людей в сиреневых коверкотовых гимнастерках все эти мелочи не трогали.
Внимание их было приковано к центру камеры, где на железном стуле с вмурованными в бетонный пол ножками горбился грузный, совершенно седой мужчина. Возраст сидящего был неуловим. От пережитой муки его лицо превратилось в землистую маску с изуродованным носом, разбитые в кровь губы не скрывали спиленных наполовину зубов, а в заплывших от побоев глазах читалось только одно — горячее желание скорейшего конца.
— Ну как, Кобылянский, вспомнили? — Рыжеволосый крепыш с майорскими ромбами на петлицах ощерился почти ласково и задумчиво потер знак «Почетный чекист» на своей гимнастерке. — Место сможете показать на карте?
Под руками хорошенькой девушки, чью высокую грудь плотно обтягивал коверкот с сержантскими кубарями, «Ундервуд» застучал подобно пулемету, хрустнул пальцами широкий, как шкаф, старший лейтенант у стены, и в повисшей тишине послышался свистящий, лишенный всякой интонации шепот:
— Не помню, ничего я не помню…
— Ну что, очень жаль. — Майор вразвалку приблизился к арестанту и стремительным движением сложенных особым образом ладоней ударил его по ушам. — Ну а так вспоминаете?
Это были «лодочки», известный еще со времен ЧК — старый добрый прием общения с неразговорчивыми, и сдавленный крик, моментально заполнивший камеру, лишний раз подтвердил его эффективность.
— Стыдно, Кобылянский, орете, как баба. — Рыжий поморщился и, внезапно коротко, без замаха, въехав арестанту в печень, да так, что того сразу скрючило, обернулся к томившемуся у стены подчиненному: — Сева, давай поговори с их высокоблагородием.
Снова девушка-сержант выстрелила из «Ундервуда» пулеметной очередью и, поправив густые, стриженные «а-ля красная москвичка» волосы, неожиданно скривила свой хорошенький носик — подследственный, которому стали перекрывать кислород, обделался.
— Скажешь, скажешь, скажешь! — Старший лейтенант между тем вошел в раж и, свалив Кобылянского на пол, принялся носком хорошо «проваренного» хромового сапога пинать его в пах. — Скажешь, сука, или загнешься!
Полковник поначалу на каждый удар отзывался громким криком и, повернувшись на бок, инстинктивно пытался прижать к животу колени, однако постепенно вопли уступили место стонам, и вскоре, сложившись пополам, он неподвижно замер.
— Засох, гад. — С неожиданной злостью рыжий чекист пнул бессильно сведенное судорогой тело и принялся закуривать «Яву». — Ну-ка, Сева, освежи его.
Сизоватое облачко медленно потянулось к облезшему потолку, запахло хорошим табаком, и, не отрывая от подследственного взгляда, майор пустил сквозь усы ощутимо плотную струйку дыма, — сколько трудов стоило приволочь этого не добитого монархиста аж из Китая, и, оказывается, только для того, чтобы нынче он играл в молчанку. А ведь кое-кто наверху — подумать даже страшно, кто именно, — с нетерпением ждет результата и, если будет он нулевым, очень даже запросто может помахать своей знаменитой трубкой и прищуриться недобро: «Нэ умеете работать, товарищи. Или нэ хотите?»
Тем временем, нисколько не смущаясь присутствием дамы, лейтенант расстегнул галифе и стал мочиться полковнику прямо на лицо, что, впрочем, на красавицу сержанта впечатления не произвело — видывала и не такое. Наконец Кобылянский застонал, тело его судорожно забилось на мокром полу, и, склонившись над ним, рыжий чекист ласково улыбнулся:
— Ну что, поговорим?
Ответом его не удостоили, и, мгновенно впав в ярость, он начал с бешеной силой ввинчивать свой палец арестанту в ухо.
— Печенками рыгать будешь, контра!
Адская боль от пробитой перепонки согнула полковника дугой, он ощерил осколки зубов, смачно выхаркнул кровавый сгусток мучителю в лицо и вдруг зашелся в яростном крике: «Ненавижу!»
— Ладно. — Майор внезапно сделался спокоен. Утеревшись рукавом, кивнул старшему лейтенанту: — Инструмент, Сева, неси, действуй.
Мгновенно в руках у того оказались пассатижи, и, крепко зажав привычным движением нос арестанта, чекист принялся шкрябать рашпилем по полковничьим зубам.
— Быдло, хамье, ненавижу!
По подбородку Кобылянского уже вовсю струилась кровь, смешанная с крошевом эмали, тело его напряглось, забилось яростно в тщетной попытке вырваться и — внезапно обмякло.
— Вырубился золотопогонник! — От презрения майор даже сплюнул и, окинув пребывавшего в обмороке арестанта ненавидящим взглядом, отвернулся к подчиненным: — Сержант, пока свободны, а вы, лейтенант, принесите воды. В ведре.
Красавица в коверкоте сноровисто собрала бумаги и направилась к выходу, покачивая роскошными бедрами. Шкафообразный чекист Сева двинулся следом, а майор, проводив их взглядом, потянул из кармана галифе «Яву». Внезапно до его ушей донесся какой-то странный, едва различимый шепот.
«Это еще что такое? — Сдвинув клочковатые, чуть потемнее усов, брови, чекист нахмурился и вдруг понял, что слышит бормотание арестанта. Так и не закурив, он шагнул к распростертому телу, склонился над ним и в изумлении замер. — Елки-моталки, как все просто, оказывается!» Бесчувственный Кобылянский, пребывая в беспамятстве, многократно повторял разбитыми губами то, о чем молчал на допросах, и, зачем-то оглянувшись по сторонам, майор прижал к его груди ладонь.