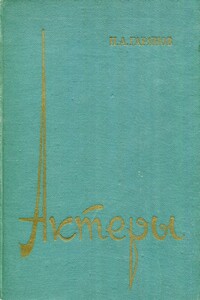В аэропорту Васьково представителя П/Я никто не провожал. Ни члены правительства, ни генеральный секретарь, ни чиновники Министерства обороны.
Поэтому подоспела мысль: «Нужен ли мне этот остров Моржовец?», и он не поехал к месту назначения. Сходил в дивизион, уговорил командира составить рекламационные документы по телеграфному описанию (все равно всякий раз причина поломки одна и та же), поставил нужные печати в командировочные бумаги и как-то незаметно исчез из военного мира. Еще гостил несколько дней в городе ангелов и улетел на Урал.
Сказать по правде, причин для такого лицемерного наплевательства было много. Эта командировка была последней: кончился срок отработки. Три года защищал он цвета почтового ящика Г-4310, маленького оборонного заводика, затертого уральскими горами.
Другой причиной было то, что вралось всегда легко. Вся работа внешнего бюро была построена на очковтирательстве — лишь бы отбить штраф от родного предприятия. В ход шло любое крючкотворство, чтоб только в итоговый документ не попала причина поломки по вине родного завода. Штрафы за доказанные причины арбитражный суд начислял немалые: премии же сотрудников бюро внешних работ прямо зависели от числа штрафов. Так что не могло развиться у представителя кристально чистое отношение к долгу, если сам долг обязывал лгать.
Он знал, что, прилетев домой, на следующий день придет в свой отдел и напишет заявление по собственному желанию. Три года прошли — прощай, хозяин! Что там оборонка, если вокруг много других интересных дел. Так что, имея такое настроение, можно было смело думать: кому нужен этот остров Моржовец? Конечно же, моржам и генералам ПВО.
* * *
Довелось угодить после окончания политехнического института в маленький поселок, где был завод по производству двигателей, генераторов и прочей электроказуистики. Завод старый, древний, на нем еще сам Татищев чего-то мастерил.
При заводе было общежитие: небольшое, двухэтажное, невзрачной крепкой постройки, помалеванное в розовый цвет, чтобы молодым специалистам не приходилось носить очки того же цвета. Два одинаковых, близнецовых корпуса. Один — для «медам».
Баранча считалась местом ссылки для нерадивых выпускников. Мы с Минькой были именно таковыми, а Шура напросился добровольно: то ли ему понравилось слово Баранча, то ли его тяготили большие города, предназначенные для законопослушных выпускников.
* * *
Проехав теплым августовским днем, мы обнаружили, что здесь загорают балбесы прошлых выпусков, как то: Фадя, Костян и Стояк. В переносном смысле — то, что они год как отрабатывают на заводе, а в прямом — они просто лежали на травке в разгар рабочего дня. Оформили командировочные и не спешили уезжать — лежали в скверике напротив общежития, потягивая пиво.
Это было правилом хорошего тона: оформить командировку, а билет на самолет взять на попозже. А вот нету на пораньше! И докажи?!
Однажды оболдуев обнаружил в скверике сам начальник Глинский:
— Ой! А что это вы тут делаете? Вам давно положено быть добравшимися до места?!
Костян сонным глазом окинул шефа и сказал великие слова:
— Юрий Васильевич! Мы, русские, долго запрягаем, но зато быстро едем!
…Нам с Минькой оболдуи очень понравились, и мы, сдав на завод документы и устроившись в общежитие, купили в местном магазине водки для поддержания задушевности.
Шура приехал на неделю позже: поселился в нашей комнате и сразу стал качать права. Он решил, что в комнате курить нельзя. Сам он был из некурящих, и как только мы с Минькой закуривали, лежа на постелях (последняя радость для молодого специалиста), он открывал двери и окна, всячески генерируя сквозняк. Нам было грустно и больно видеть, как выветривается с таким трудом созданный кумар.
Иногда, чтоб не простыть на сквозняке, он надевал черный длинный плащ с капюшоном и становился похож на инквизитора. Многие даже поговаривали, что Шура по ночам ловит еретиков.
Но мы не спешили покупать у него индульгенции, а наоборот — старались сделать веселой жизнь нашего добропорядочного падре. Один раз напихали ему в зимнюю одежду и в валенки железяк весом до килограмма и более, в другой раз прибили под койкой его вещевой чемодан. На следующий день застали картину: сидя на корточках, Шура вертел на полу чемодан вокруг невидимой оси и демонически хохотал.
Нам от Шуры страдалось не меньше. Он был жаворонком, ранней пташкой, и иногда в выходной вставал в семь утра, брал в руки гитару и духовой камертон и принимался долго и заунывно настраивать. Звук у камертона был тоскливый и незвучный, короткий, как жизнь рябчика, и походил на охотничий манок. Досыпать при такой фонограмме было совершенно невозможно:
«Жаворонок — это вовсе не птица! Это Шура Испанец — виртуоз, гитарист».
Настроивши, он принимался тамбуринить однотипные вариации фламенко.
— Шура? А знаешь ли ты, что все люди делятся на сов и жаворонков?
— Ну, знаю…
— Так вот ты — дятел!
Радостно осклабившись, он полез душить кого-нибудь из нас, делая при этом мистическую мину:
— Я Алессандро! Алессандро! А ты убил меня. Убийца…
Он и в самом деле был похож на коварного слугу из известного фильма.