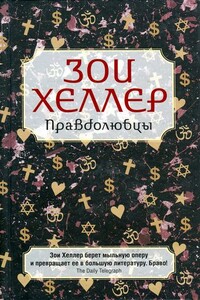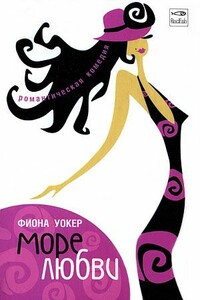В переулке за Гауэр-стрит, на вечеринке в тесной квартире, у окна одиноко стояла девушка. Локти она крепко прижимала к бокам, пытаясь скрыть темные цветки пота, распускавшиеся на подмышках ее платья. Прогноз обещал окончание недельной жары, но дождь обетованный собирался неторопливо. Сейчас, однако, мыльный воздух потрескивал искрами, а сварливые голуби начали оседать на карнизах и жаться друг к другу. Вид из окна напоминал коллаж: крыши Блумсбери словно приклеились к тяжелому фиолетовому небу.
Насмотревшись на пейзаж, девушка оглядела комнату с неприступным видом человека, стремящегося обратить одиночество средь шумного веселья в завидное преимущество. Здесь собрались студенты, и кроме парня, с которым пришла сюда, она никого не знала. Двое мужчин, один за другим, подходили к ней с намерением завязать разговор, но, испугавшись их покровительственного тона, девушка отослала обоих прочь. Очень даже неплохо, говорила она себе, невозмутимо стоять в сторонке, когда остальные вопят и размахивают руками. Отчужденность, воображала она, придает ей загадочности.
Вот уже некоторое время она наблюдала за высоким человеком на другом конце комнаты. Он выглядел старше других гостей. (На неизведанной территории преклонного возраста девушке приходилось полагаться на интуицию: наверное, ему слегка за тридцать.) Разговаривая, он разминал предплечья, будто хотел словно ненароком обратить внимание присутствующих на свою развитую мускулатуру. А слушая других, иногда ни с того ни с сего поднимал ногу и закидывал руку назад, словно вбрасывал мяч. Она никак не могла решить, то ли этот человек очень милый, то ли очень противный.
— Американец, — произнес кто-то рядом.
Обернувшись, Одри увидела, что ей хитро улыбается светловолосая девица в ядовито-зеленом платье. Пудрилась эта блондинка явно не глядя в зеркало, нос и подбородок выделялись на лице густой оранжевостью.
— Юрист, — продолжала блондинка, указывая на высокого мужчину. — По имени Джоел Литвинов.
Одри осторожно кивнула. Задушевные женские беседы ее никогда не привлекали. Она по опыту знала, что общность взглядов собеседниц обычно весьма сомнительна, а под сердечностью почти всегда таится враждебность, как под люком в подпол таится тьма. Блондинка придвинулась совсем близко, и Одри ощутила на своем ухе горячее влажное дыхание. В Лондон этот юрист приехал из Нью-Йорка, шептала блондинка, в составе какой-то делегации, чтобы просветить Лейбористскую партию насчет американского движения за гражданские права.
— Говорят, он жутко умный, — сказала блондинка и доверительно добавила, опуская веки: — Еще бы, ведь он еврей.
Из окна, оттуда, где створку подперли книгами, подуло сквозняком. Губы Одри вытянулись в ледяной улыбке:
— Прошу меня извинить.
— Ой какие мы, — пробормотала блондинка ей вслед.
Пробираясь сквозь толпу, Одри прикидывала, насколько ловко она разобралась с ситуацией. Раньше она бы нарочно продлила разговор, чтобы узнать, какую смешную либо зловещую черту припишет собеседница национальности незнакомца — наделит ли она это племя деловой хваткой, скупостью, неврозами или настырностью, — а затем, позволив порочащим словам вылететь изо рта, Одри любезно поведала бы, что она тоже еврейка. Но это развлечение ей давно надоело. Попытки пристыдить соотечественников за глупые предрассудки никогда не приносили чаянного удовлетворения; соотечественники почему-то не желали искренне стыдиться. Одри решила, что куда разумнее наслаждаться моральной победой в горделивом молчании, а пусть эти кретины растерянно хлопают глазами.
Она резко остановилась, услыхав, как ее окликают. В нескольких метрах, между двумя рослыми мужчинами, стоял коренастый рыжеволосый парень, — троица невольно изображала башенную стену. Рыжего звали Мартин Седж, это и был ее кавалер на сегодняшний вечер. Он кивал и махал, выпуская колечки табачного дыма:
— Одри! Иди к нам!
С Мартином Одри познакомилась три месяца назад на съезде Социалистической лиги труда[1] в Конвей-холле. Хотя Мартин был на год моложе, в политической теории он обнаруживал куда большую осведомленность и принимал куда более активное участие в деятельности партии, чем сама Одри. Это неравенство придало их дружбе педагогический настрой. До сегодняшнего вечера они встречались вдвоем четыре раза, всегда в одном и том же замызганном пабе, и каждый раз их общение протекало в наставническом ключе: Одри медленно, по глоточку, прихлебывала шанди[2] или ковырялась в яйце под маринадом, пока Мартин осушал кружку за кружкой и вещал.
Поучения Мартина воспринимались как должное. Одри стремилась к самосовершенствованию. (Первую страницу дневника, который она вела в тот год, Одри украсила изречением Сократа: «Я знаю лишь то, что ничего не знаю».) По-юношески одержимая высокими целями, она даже наслаждалась занудством Мартина. Какое еще требуется доказательство серьезной направленности ее мыслей и отказа от проторенных путей, если она по собственной воле проводит весенние вечера в пивняке, внимая угрюмым рассуждениям какого-то парня о Четвертом интернационале?