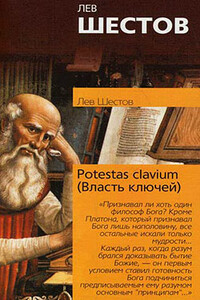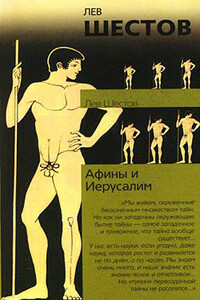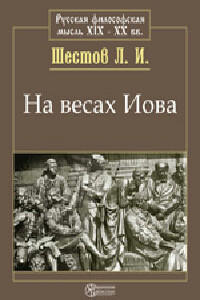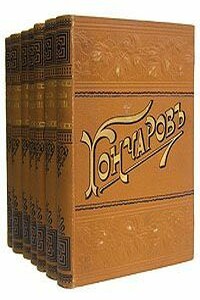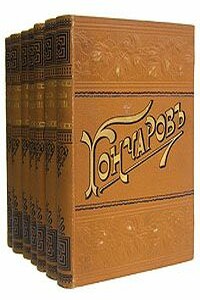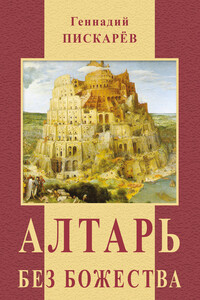Последний Привет. Памяти Жака Ривьера[1]. "Новый Журнал", no.128, сентябрь 1977, стр.88-92
Le vrai sage est celui qui fonde sur le sable
Sachant que tout est vain dans le temps éternel.
H. de Regnier
Перечитывая то, что осталось у нас от J. Rivière'a и между прочим его "Introduction" к "Miracles"[2] безвременно погибшего Alain Fournier (введение, которое нам не меньше рассказывает о самом Rivière'e, чем о Fournier) я, дойдя до места (ст. 17), где он делится с читателем своими впечатлениями от чтения "Tel qu'en songe" Henri de Regnier, вспомнил другие когда-то поразившие меня стихи этого же поэта:
Le vrai sage est celui qui fonde sur le sable,
Sachant que tout est vain dans le temps éternel.
[3]И теперь они мне показались еще более глубокими и значительными. И еще показалось мне, что когда J. Rivière писал свое introduction, они как бы стояли пред его глазами. Он чувствовал, что, если он захочет "строить на прочном граните", может быть и удастся сохранить для потомства кое-что из написаного Fournier, но самого его спасти не удастся. "Вечное время" беспощадно пожрет и проглотит и его, как уже пожрало и проглотило несметное количество молодых и старых человеческих жизней. Знания, самые прочные, возведенные на самом твердом граните все, что кажется нам несокрушимым in saecula saeculorum, все рано или поздно станет добычей тления. И можно ли спасти от ярости времени юношу, хотя и высоко одаренного, но не успевшего за свое кратковременное существование даже приобрести в глазах людей право на monumentum aere perennius? История не впишет его безвестного имени на свои страницы, и люди, память которых и без того обременена нужными и ненужными знаниями, скоро о нем забудут.
Ривьер это чувствовал, когда начал писать свое Introduction и с той смелостью, которая его отличала еще в молодости и которою запечатлены все его юношеские статьи, собранные в вышедшей в прошлом году книге "Études", решился бросить вызов самому исполину — времени. Он передает, что известное признание B. Constant'a: "Je ne suis peut-être pas tout à fait un être réel" [4] потрясло необычайно Fournier и что "il nous recommanda solennellement de ne jamais l'oublier quand nous aurions en son absence, à nous expliquer quelque chose de lui..."[5] И так он толкует это требование: "Je vois bien ce qui était dans sa pensée: il manque quelque chose à tout ce que je fais, pour être sérieux, évident, indiscutable. Mais aussi le plan sur lequel je circule n'est pas tout à fait le même que le vôtre; il me permet, peut-être, de passer là où vous voyez un abîme: il n'y à peut-être pas pour moi la même discontinuité que pour vous".[6]
Так начинает свое "Introduction" Ривьер. Он понимает, что во всем, что делал его друг, строгая критика найдет ничем не оправдываемые недостатки. Защитить его нет никакой возможности, пока приходится бороться на той почве, на которой обычно люди сталкиваются. Очевидность, бесспорность, даже то, что люди превыше всего чтят — значительность (sérieux), на стороне его противников. Но побежденным он себя признать не хочет. Как Макбет у Шекспира, он вызывает самоё судьбу на поединок. Он поднимает вопрос: точно ли то, что мы считаем очевидным и бесспорным, точно ли значительность, за которую мы воздвигаем людям памятники из бронзы, меди и мрамора — во всех сферах бытия пользуется тем же признанием, как у нас на земле? Вопрос столь огромный — и вместе парадоксальный — чтоб ответить на него нужно было бы пересмотреть все наши представления о существующем. Да и полагается ли на такие вопросы отвечать? Время и человеческий разум, к которым эти вопросы обращены, — способны ли они их услышать? Ведь и время, и разум при всем их столь принижающем людей всемогуществе слышать не умеют! Это им не дано. Ривьер знает это не хуже других. Он дальше пишет (12): "Quand je la compare à la sienne, toute ma vie qui pourtant fut occupée par beaucoup des mêmes événements, m'apparaît affreusement positive. J'ai saisi bien des choses qu'il laissa échapper; mais c'est lui qui volait, moi qui reste..."[7]
Но не только жизнь Ривьера, и жизнь его друга была affreusement positive. Не говорит ли он нам сам — с той проницательностью, которая не изменила ему даже и тогда, когда он наталкивался на неуловимейшие движения своей и чужой души, что биография Fournier, как бы добросовестно ни рассказать ее, была бы только récit des faits qu'il n'a pas vécus. Я думаю, что и биография Ривьера была бы только récit des faits qu'il n'a pas vécus. Но о себе даже Ривьер, при всей своей неустрашимости не решился бы сделать тех признаний, которые он сделал за своего друга. За ушедшего в иной мир можно сказать, что в каком-то плане бесспорность, очевидность и даже значительность утрачивают свою власть и обаяние. Как о себе сказать это? Легче назвать себя affreusement positif, легче сравнить себя с пресмыкающимися, только бы сохранить право признаваться всеми реальным существом. Умерший обойдется и без памятника — живому же без признания и содействия людей никак не просуществовать. Ривьеру не только в жизни, но и в писаниях своих (даже в