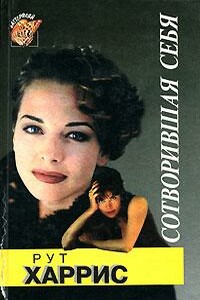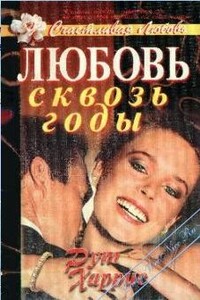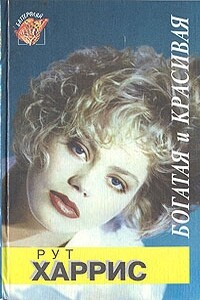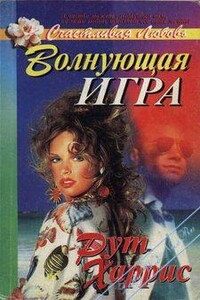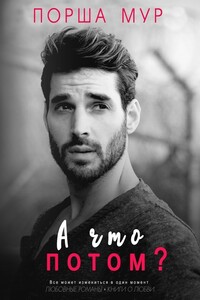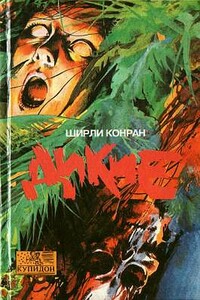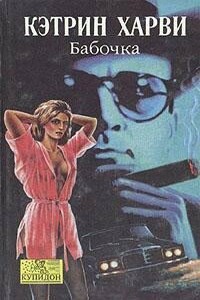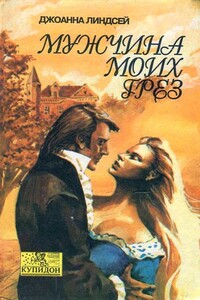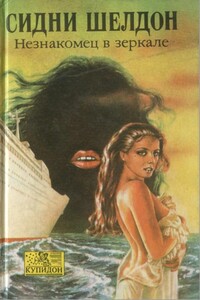Париж, 11 ноября 1918 года.
Как сказать незнакомке «Я люблю тебя»? Как бы вы описали состояние человека, пораженного ударом молнии? Что это, подарок богов? Поцелуй судьбы? Как объяснить ей, что вы увлечены, околдованы, очарованы, прикованы к месту, загипнотизированы сладким восторгом и ужасом? Как найти слова, чтобы выразить чувства, которых вы еще никогда не испытывали?
Ким стоял на улице Монтань, словно пригвожденный к тротуару, онемев и застыв, как только увидел ее, – вокруг нее, казалось, было золотое сияние и исходил восхитительный аромат, к тому же она смотрела на него так, словно еще никогда не видела мужчин…
А что могла сказать она? «Я люблю»? Но она видела его впервые в жизни. Как описать этот внезапный миг, пронзивший, отнявший у нее дар речи и превративший ее за какую-то долю секунды из женщины деловой и решительной в беспомощную и ослепленную?
Как же описать то, что она чувствовала, если никто и никогда не переживал еще ничего подобного?
Николь остановилась перед дверью своего магазина, застыв на тротуаре, позабыв о метелке, которую сжимала в руках, остолбеневшая от одного только его вида, – он был стройный, высокий, элегантный и невероятно красивый… И смотрел на нее так, словно еще никогда не видел женщин…
Его звали Мак Ким Хендрикс. Ему было двадцать лет; он был героем войны, и свидетельством тому был засевший в его колене осколок кайзеровской шрапнели. Он был начинающим журналистом, и несколько статей, опубликованных под его именем, подтверждали это.
Он был сторонником демократии, прогресса, мира, правды, справедливости, чести и подлинного искусства. У него была невеста, и у него была работа, о которой можно только мечтать: и та и другая ждали его в Нью-Йорке. Обратный билет – на послезавтра! – лежал у него в кармане, а в правой руке он держал бутылку шампанского – остаток от продолжавшейся всю ночь пирушки в кафе на Монпарнасе с друзьями-писателями и художниками.
Мысли торопливо проносились у него в голове. «Я люблю вас! Но это еще не все! Вы будете для меня всем, и я буду ваш безраздельно! Вместе мы станем друг для друга всем, чем только захотим стать, и сделаем все, что только захотим сделать… Не только сейчас, но и завтра, и всегда, и навсегда…»
Сумасбродные слова готовы были сорваться с его языка, и Ким понимал, что, если бы только девушка могла заглянуть сейчас ему в душу, она бы сочла его сумасшедшим. Все знакомые всегда говорили ему, что он слишком доверчив и слишком романтичен, и предупреждали его, что думать надо головой, а не сердцем. Но она – нет, она была единственной! Невероятной! Чудесной! Восхитительной! Ослепительной! И небеса создали ее – для него.
Вот только если бы он мог придумать и сказать что-нибудь вразумительное!
Ким направлялся – как и весь Париж и, казалось, весь мир – на Елисейские поля, где должно было состояться официальное провозглашение мирного договора, – война, наконец, кончилась. Молодой человек пересек запруженную транспортом улицу Монтань в самом центре квартала, размышляя о материале, который собирался написать (и это будет коронный результат его поездки в Париж!), как вдруг едва не наскочил на нее. Девушка была молода, примерно одного с ним возраста, цвет ее волос напоминал густой мед, освещенный солнцем, а глаза были цвета золотистого топаза. Казалось, ее окружала золотистая аура. Одета она была весьма элегантно – просто, но со вкусом, и, в довершение ко всему, она подметала тротуар. Ким остановился так близко, что смог бы, если бы только захотел, протянуть руку и дотронуться до нее, и в эту минуту он почувствовал аромат свежайших цветов. Но ведь стоял ноябрь месяц! В самом сердце Парижа уже не найти букета! Мирный договор будет провозглашен в одиннадцать – одиннадцатый час одиннадцатого дня одиннадцатого месяца должен принести удачу, и Ким, стоя лицом к лицу с ней и вдыхая аромат цветов, который, как он скоро догадался, принадлежал ее духам, подумал, что день этот не просто удачный, но прямо-таки волшебный. Сверкнувшая на улице Монтань золотая молния пригвоздила его к тротуару, он замер, потеряв дар речи. Когда он очнулся от потрясения, нужные слова пришли к нему сами.
– За Францию! За мир! За любовь! – сказал он, протягивая ей бутылку шампанского. – Разве вы не выпьете за это!
– В девять тридцать утра? – Она улыбнулась: это было и умно, и восхитительно. Он знал, что именно так она должна улыбаться! И с этой улыбкой она продолжала подметать тротуар своей очень европейской метелкой – из прутиков, связанных вместе крепкой бечевкой. Уборщик отмечал наступление мира в стране и утром не появился, так что Николь занималась сейчас его делом.
– Ваша хозяйка, должно быть, настоящая людоедка, если заставляет вас работать в такой важный день. – Ким показал на черную вывеску с золотыми буквами «Николь Редон», висевшую справа от чугунной решетчатой двери с ослепительно сияющей ручкой. – Редон, должно быть, изрядная дубина, – уточнил Ким. – Но даже она не посмеет отругать вас, если в честь праздника вы выпьете глоток шампанского…
Николь продолжала подметать, пытаясь отвести от него взгляд, и не могла… не могла… На нем были узкие брюки из пике, делавшие его стройные ноги еще длиннее; мягкую серо-голубоватую шерстяную блузу, весьма подходившую по тону к его глазам, схватывал тяжелый пояс с тяжелой металлической пряжкой – германский трофей, – и пестрый твидовый пиджак. Длинный плащ-полушинель, сплошные складки и пряжки, наброшен на плечи. Он был высок – чуть повыше шести футов, – и в его теле чувствовалось прекрасное соотношение мускулов и плоти. Лицо, отмеченное загаром, привлекало сильными и одновременно утонченными линиями. А чистые голубые глаза были на редкость выразительны, полны жизни и любопытства. Рот казался чувственным и всегда готовым улыбнуться. По-французски он говорил довольно бегло, но с отчетливым акцентом, – впрочем, у него хватало ума не скрывать свой американский выговор, а Николь всегда нравились американцы, так уж была устроена ее душа…