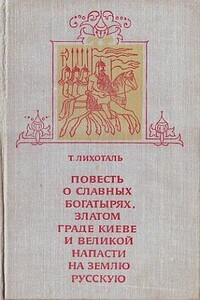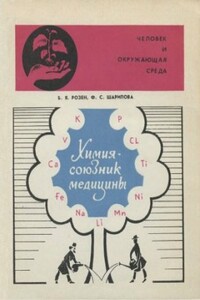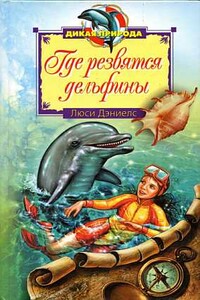Лёшка был слабенький, часто простужался, и у него болели уши. Мама никогда не покупала ему мороженого: «Ты же знаешь, что тебе нельзя». Лёшка знал. На ночь ел гоголь-моголь с тёплым молоком. А когда Лёшка шёл гулять, мама повязывала ему платок.
«Сегодня ужас как холодно, — говорила она соседке Марье Григорьевне, — я повязала Лёшеньке свой оренбургский платок».
Марья Григорьевна гудела в ответ:
«О-о, у меня тоже когда-то был оренбургский! Да его весь в горсти зажмёшь…»
Зачем Марье Григорьевне понадобилось зажимать в горсти платок, было непонятно. Зато слово «оренбургский» она произносила так, что всем становилось ясно: лучше этого платка на свете нет. А ещё Марья Григорьевна говорила:
«Плохо, когда в доме нет мужчины». Это она про Лёшкиного папу.
Лёшка уходил в комнату. Прикрывал двери. Забирался с ногами на диван.
…На Лёшкином столике в коробке лежат аккуратно уложенные в ватные гнёздышки яички. Разные — и побольше, и поменьше, и белые, и голубенькие, и крапчатые. Бурое в крапинку — яйцо поморника, легкокрылого бесстрашного разбойника. Так сказал папа. А вот это длинненькое зеленоватое, похожее на маленькую грушу, — кайры. Возьмёшь его в руку — тяжёлое, крепкое, в плотной скорлупе. Папа положил яйцо на край стола и слегка толкнул его. Лёшка испугался — скатится! Но оно не скатилось, а только завертелось на месте.
«Не бойся, — сказал папа, — не упадёт. Кайры откладывают свои яйца на уступах скал, над морскими обрывами. И они не падают, вот какие устойчивые».
В последний свой приезд папа по утрам выходил во двор делать зарядку. Лёшка сидел на подоконнике и, протирая пальцами пятаки на морозных листьях, смотрел, как папа, голый по пояс, обтирается снегом. А самому Лёшке приходится гулять в оренбургском платке.
Сначала платок надевали поверх шапки и завязывали крест-накрест под мышками. Но, когда Лёшка пошёл в школу, из-за этого получился целый скандал. Гоголь-моголь с тёплым молоком Лёшка, так и быть, ел — всё-таки сладкий, хоть и надоел порядком, но платок надевать отказался наотрез. Потому что мальчишки кричали: «Платок! Платок!», визжали и смеялись. Они ведь не знали, что это не какой-нибудь обыкновенный платок, а настоящий оренбургский, которого теперь не достать. Тогда мама стала повязывать платок под шапку.
Утром в раздевалке Лёшка старается поскорее сдёрнуть платок с головы и незаметно засунуть его куда-нибудь. Теперь-то он понимает Марью Григорьевну: «Да его в горсти зажать можно». В горсти Лёшка не пробовал. Зато в рукав или в карман — очень даже здорово получается.
После уроков Лёшка возится, пока все не уйдут из раздевалки. Его даже прозвали копухой. Но Лёшка считал: лучше пусть «копуха», чем «платок».
Хуже всего было с Олей Тереховой. Все уйдут, а Оля стоит и ждёт Лёшку. Лёшке слышно, как она нетерпеливо постукивает ботиком в деревянную стенку перегородки:
— Лёш, а Лёш, скоро ты, что ль?
Лёшка только пыхтит в ответ. Ну конечно, он не скоро. Попробуй-ка тут скоро.
Небось рукавички потерял? Ох и растяпушка! — нараспев тянет Оля.
Ничего я не потерял! — сердито бормочет Лёшка.
Ещё, чего доброго, Оля сейчас явится сюда на помощь!
— Не терял я, не терял, — бормочет Лёшка, а сам прислушивается: не ушла ли Оля? Вдруг уйдёт! Надоест ей ждать — и уйдёт.
Но Оля стоит. Девочки её с собой звали — не пошла. Мальчишки пробовали ей кричать: «Тили-тили-тесто…» — внимания не обратила. Вот она какая — Оля!
«Ну ещё немножечко постой!» — просит Лёшка Олю. Мысленно, конечно, просит, про себя. Вот уже и шапку Лёшка натянул. Торопливо провёл пальцем по лбу — не торчит ли из-под шапки белый край. Нет, ничего вроде. «Сейчас, сейчас». Лёшка наденет пальто, и они вместе с Олей выйдут из школы и пойдут домой. Им ведь по дороге.
Они пройдут длинным, прямым как стрела, бульваром, по обеим сторонам которого торчат голые рогатые ветки. Оля будет шагать, размахивать портфелем, что-то говорить и смеяться. А когда она смеётся, на щеке у неё дрожит чуть приметная ямочка. Лёшка будет слушать и молчать. Говорит Оля не спеша, и Лёшке кажется — кругленькие «о» так и катятся друг за дружкой в её словах…
Когда Оля пришла к ним в класс, девочки, бывало, окружат её и спрашивают:
«А у вас там, где ты жила, через верёвочку прыгают?»
«А то-о!» — скажет Оля и как заскачет — даже верёвки в воздухе не видать.
Как хорошо, что до дому им идти долго! Они пройдут весь бульвар и поднимутся по ступенчатой, уставленной деревянными домиками улице, похожей на этажерку. И здесь на них набросится ветер. Засвистит, завоет, будет дуть в лицо.
В такой ветер на Севере не летают самолёты. Хмурые лётчики сидят, нетерпеливо поглядывают в окно и просят синоптика дать погоду. «Синоптик», оказывается, у древних греков означало: «обозревающий всё вокруг». Так сказал папа. А может, Лёшка перепутал: «обозревающий всё вокруг» — это по-русски, а по-гречески — просто «синоптик».
Папа тоже был синоптиком. И ведал погодой на всём побережье от бухты с красивым названием «Лебяжья» до самой Коварной Губы.
В городе, где живёт Лёшка, наверно, нет синоптика, и ветер гуляет как хочет. Он всегда сторожит их — Лёшку и Олю — здесь, наверху. Налетит, начнёт толкаться или встанет на дороге невидимой стеной. А то ещё пригонит откуда-то тёмную тучу, закружит её, разорвёт в клочья, так что посыплется на голову колкая стружка снежинок.