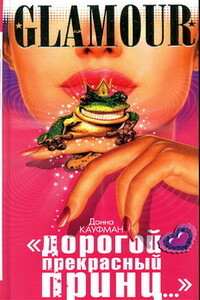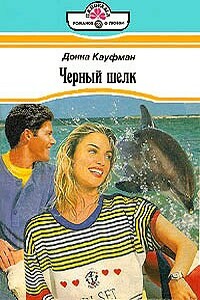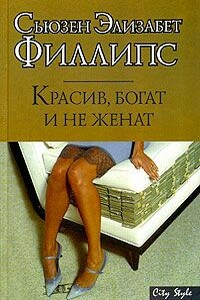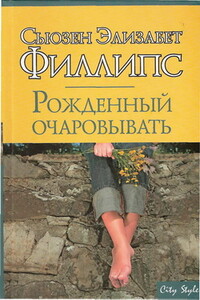Внимательно осматривая помещение, он отчетливее всего представлял себе сцену побоев, которым его регулярно подвергал здесь отец. Возможно, память сыграла с ним эту злую шутку в отместку за колоссальное перенапряжение его мозгов, уже давно требовавших отдыха. Таггарт Морган Второй устало откинулся в растресканном и потертом кожаном кресле и закрыл глаза.
Ничего нового в домашнем кабинете своего папаши он, собственно говоря, не обнаружил. На стеллажах от пола и до потолка стояли все те же книги, главным образом по юриспруденции. На дубовом столе на своих прежних местах находились знакомые ему письменные принадлежности: пресс-папье, нож для вскрытия конвертов и набор авторучек фирмы «Кросс». И конечно же, в углу стоял проклятый табурет, на который всегда усаживал его отец, прежде чем прочесть ему нотацию и хорошенько выпороть.
До сих пор Таггарт явственно слышал его пронзительный голос и свистящий звук ремня, вытаскиваемого из поясных штрипок отцовских брюк. Прошло уже семнадцать лет, но Таггарт не забыл ничего...
... Я окончил юридический факультет университета! Получил право заниматься частной адвокатской практикой! Пробился на самый верх карьерной лестницы! Доказал всему городу, из чего в действительности сделаны мы, Морганы! Если кое-кто считает, что наши предки были отбросами общества, это вовсе не означает, что и нам суждено остаться отребьем! И ты докажешь это всем, кто еще сомневается в этом, даже если мне придется ежедневно учить тебя уму-разуму затрещинами! БАЦ!
...Заруби у себя на носу, что Морганы всегда добивались поставленной цели! Я вдолблю это в твою башку, сынок, и закреплю свой урок доброй поркой. Ты должен стать первым учеником в своем классе, всегда ходить с гордо поднятой головой, на меньшее я не согласен. Я вышибу из твоих ослиных мозгов всю блажь, глупый щенок, и буду сечь тебя ремнем до тех пор, пока ты не пожалеешь, что раньше не внял моим наставлениям. А если ремень не подействует, тогда я попробую вразумить тебя иначе, вот так... БАМ!
Таггарт вздрогнул, вспомнив, как отец влепил ему увесистый подзатыльник, от которого он слетел с табурета на пол. Из кладовой памяти посыпались, словно бесы из преисподней, другие гадкие воспоминания. Гневные тирады папаши явственно прозвучали у него в голове и гулким эхом разнеслись по всему кабинету, словно бы произносивший их расхаживал по нему взад и вперед, размахивая руками и брызжа слюной. Давно похороненные, неприятные эпизоды снова воскресали в сердце Таггарта и жгли ему нутро, доказывая тем самым, что отрешиться от своего прошлого невозможно. Они слепили ему глаза и терзали душу, являясь во всех своих подробностях перед его мысленным взором и как бы насмехаясь над его тщетными попытками подавить их усилием воли.
...Сколько, по-твоему, судей в округе Маршалл ?Двое, болван! И я, твой отец, один из них. И ты, мой старший сын, еще имеешь наглость говорить, что хочешь добывать свой хлеб, роясь в зловонной грязи? Я плачу за твою учебу в университете, поэтому мне и решать, идиот, на каком поприще тебе лучше делать карьеру!
БАХ!
Ты даже больший олух, чем я предполагал, если не смог придумать для себя ничего получше.
ТРАХ!
Старый рубец, оставшийся Таггарту на память о ране, нанесенной ему перстнем отца, вдруг запылал, и он машинально потер щеку в том месте, откуда когда-то хлынула кровь, и болезненно поморщился, словно бы ему вновь влепили пощечину.
Ты даже в подметки не годишься своему отцу, избалованный щенок! Да ты бы давно уже пропал, если бы я не вел тебя по жизни своей твердой рукой. Но всему существует предел. И разрази меня гром, если я и впредь стану все это терпеть! Можешь позорить меня на весь округ, бросать тень на всю нашу семью, приводить в ужас весь город, заставлять свою покойную мать от стыда перевертываться в гробу. Но только тогда не останавливайся, покинув этот кабинет, и продолжай шагать куда глаза глядят не задерживаясь, чтобы забрать свои вещи, и немедля в дверях.
Вены на лбу отца взбугрились, тревожная краснота растеклась по его лицу и шее. Он был страшен и преисполнен величия в своем праведном гневе, очевидно, считал себя кем-то вроде библейского Авраама, приносящего в жертву своего сына Исаака.
И не смей оглядываться! С этого момента у меня только трое сыновей. Ты для меня умер!
Вспомнив сцену своего изгнания из отчего дома, Таггарт зажмурился. Сердце его заколотилось в груди с той же чудовищной силой, как в ту минуту величайшего потрясения. Сжав трясущиеся пальцы в кулаки, он явственно почувствовал ярость, вскипающую в груди, и возненавидел себя зато, что позволил своему позорному прошлому снова наказать его за былые прегрешения. На скулах у него заходили желваки, на щеках вспыхнул румянец. Но колоссальным усилием воли Таггарт подавил приступ бешенства и не позволил эмоциям вырваться из-под контроля рассудка.
Тогда, много лет назад, он тоже поступил так, потому что понимал, насколько опасно перечить взбешенному отцу. Сейчас же срывать злость ему было просто не на ком. Разве что на самом себе...
Он резко отшатнулся от стола, чтобы не смахнуть с него письменные принадлежности на дорогой старинный ковер, глубоко вздохнул и взял себя в руки. Точно так же он поступил и тогда, семнадцать лет назад, прежде чем упрямо вскинуть подбородок, расправить плечи и выйти вон из дома, устремив взгляд вперед, в свое туманное будущее.