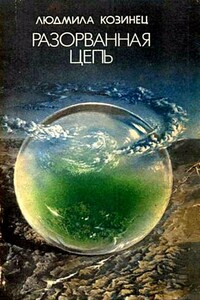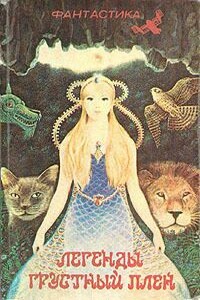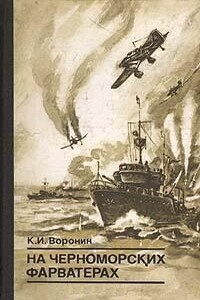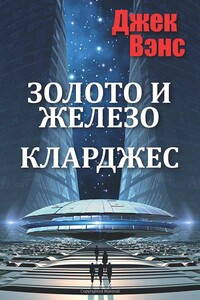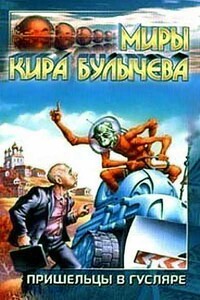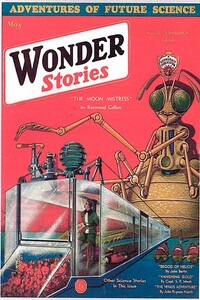Дочке Ольге
…«Тара-рам-тара-рам, та-рарара-а!» — и так далее. Это гремит «Прощание славянки», от перрона отчаливает поезд, заполошные голуби бросаются с карнизов старого вокзала в плотный жаркий воздух. Девушка, которая только что целовалась у вагона с плохо скрывающим скуку молодым человеком, медленно побрела прочь, размахивая на ходу букетом темных пряных роз. Она остановилась у фонтанчика, приподнявшись на цыпочки, пристроила букет в верхней чаше каскада, посмотрела на цветы неприязненно и отчужденно.
Во ненормальная, да восемь раз мне начхать бы на этого малохольного, а цветы-то, да еще такие, зачем бросать? Хотя, тут у них на юге они не в диковинку, вон даже фонарные столбы у вокзала заплетены ползучими стеблями. И бело-розовые грозди мелких роз, и оранжевые кисти каких-то невиданных колокольцев, и лиловые кудри глицинии. Красота! И мороженое вкусное, и солнышко шпарит вовсю, и диплом запакован в чемодане, да здравствует свобода!
Ну так. Пломбир я съела, разбитного таксиста шуганула — еще чего, я желаю ваш город в подробностях рассмотреть, желаю ножками, ножками эту землю попробовать, так что кати-ка ты, друг… Эй, подожди! Скажи, как на Сиреневую пройти? Ага… понятно, второй поворот направо… Мерси и чао!
А теперь сумку на плечо, чемоданчик в руку и марш-марш под затихающие звуки «Славянки».
Буквально в сотне метров от разноцветного бедлама привокзальной площади начались тишайшие улочки, белые домики под красной черепицей, живые стены винограда, роскошные цветники. Я напилась воды над замшелой каменной раковиной чешимы — татарского источника, вырубленного в меловом откосе холма, помыла там абрикосы, подобранные у изгороди сада. Дела-а… Абрикосы на улицах валяются. А вот Светка, бедная, распределение на Воркуту получила. Ей там, небось, не видать абрикосов. Ну ничего, я ей сушеных пошлю, вот только бы добраться до улицы Сиреневой, бросить вещи и переодеться. Джинсы мои превратились в какие-то раскаленные латы. И в кроссовках горячо.
Свернула с улицы Тюльпанной на Фруктовую, а через квартал вышла на Сиреневую. Дом номер двадцать пять…
Он прятался в глубине замощенного желтым кирпичом двора. Я поставила чемодан, уселась на него и, ощутив историчность момента, принялась разглядывать дом, где мне предстояло прожить долго… Может быть, и всю жизнь.
Домишко был славный. Первый этаж сложен из кремового ракушечника, немного потемневшего от времени, второй — обшит узкой доской. Выше мансарда, куда прямо со двора вела деревянная лестничка в два оборота. Возле лестнички на кирпиче двора лежал плетеный половичок. На перилах укреплены ящички с настурциями. В мансарде распахнуто плохо промытое окно, с подоконника свешиваются кружевные заросли душистого горошка. По карнизу гуляет горлица, горделиво поводя украшенной переливающимся ожерельем шейкой. На крыше — две трубы (печное отопление, прелесть какая!) и телеантенна, почти сплошь заплетенная хмелем. Ну и ну… А я-то думала, что таких домишек нынче и не существует.
В окне мансарды показался какой-то человек, на носу которого поблескивали старомодные очки в круглой железной оправе. Он свесился вниз, примят красные цветы горошка, внимательно посмотрел на меня и неприятным голосом сказал:
— Ну чего расселась? Заходи…
Я поволокла чемодан наверх. Значит, обитать я буду в этой живописной мансарде. Здорово! Вот только лестница скрипит, но это мы в два счета поправим. Найдутся же там молоток и гвозди?
Комната оказалась очень большой и светлой, хотя и запущенной до безобразия. Ну только что грибы по углам не росли. Пыль там не вытирали, по-моему, со времен постройки.
Я бухнула чемодан на пол и опять уселась на него, разглядывая комнату и ее хозяина. Вернее — бывшего хозяина. Я же приехала.
Он сидел на единственном в комнате стуле самой мною нелюбимой породы мебели. Знаете эти канцелярские чудища с прямыми дерматиновыми спинками… Впрочем, хозяин был не лучше. Давно пенсионного возраста, этакая мышь белая. Вокруг лысины седенькие клочки, глаза красные, длинный подвижный нос в характерных лиловых прожилках. Усики мушкой. Одет в полотняную рубаху, какой-то гибрид толстовки с френчем. Накладные карманы, в одном из которых торчит вечное перо. Подпоясан узеньким ремешком с металлическими бляшками, штиблеты на босу ногу. Прямо ильфопетровский персонаж, сохранился же до наших дней. Музей по нему плачет…
Глядел он на меня скорбно и неодобрительно. Ну, еще бы. Вам время тлеть, а нам цвести. Гони-ка, бывший хозяин, ключи и выметайся-ка отсюда. Я мыть стану.
Он словно прочитал мои мысли. Пожевал губами, тяжко вздохнул, мол, что поделаешь, начальству виднее, а вот попомните его слово, провалят эта пигалица всю работу…
— Значит, так, — проскрипел он. — Жить будешь здесь. Горячей воды нету. Газ. Удобства. Телефон. Там — кухня. Здесь — картотека. Советую отнестись со вниманием, я двадцать лет собирал. Все они, голубчики, тут. А вот эти — особо… — он замялся.
Явно чуть не сказал «опасные», но просто махнул рукой, передавая мне брезентовую сумку, набитую бумагами и перетянутую кожаными ремешками.
— Найдешь их легко, они нынче не скрываются, не то, что раньше. Каждый вечер либо на Пушкинской болтаются, либо в кофейне на Архивном спуске околачиваются. А через них и на остальных запросто выйдешь, они все кучкой держатся, как идиоты непуганые. Ты не в потолок смотри, ты меня слушай!