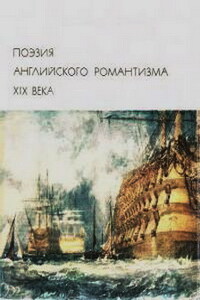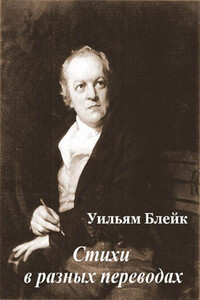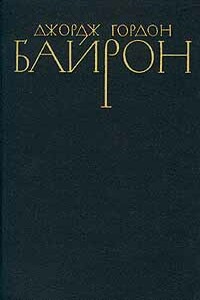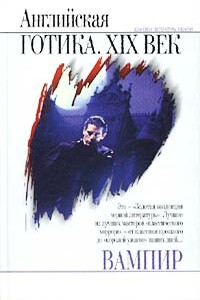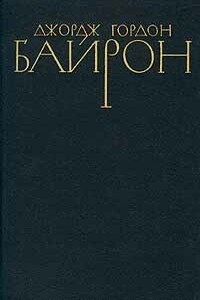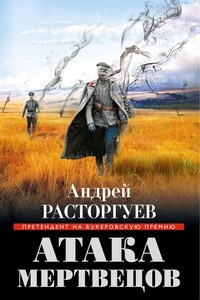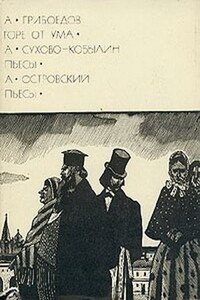Д. Урнов ЖИВОЕ ПЛАМЯ СЛОВ
Такой книги у нас еще не было. Не было каждому читателю доступной картины английской романтической поэзии.
Конечно, читателю важна не «картина». К чему читателю, если только вместо чтения не занимается он коллекционерски-количественным улавливанием книг, набор имен и названий? Мы знаем Байрона. Нам известно имя Шелли. Но их современники, Вордсворт или Кольридж, почти ничего для нас не значат даже как имена. Может быть, это объективный приговор истории, и наша память не усвоит других имен, других стихов, кроме тех, что уже являются нашим достоянием, как «Вечерний звон» Томаса Мура и байроновское «Прощай — и если навсегда, то навсегда прощай» (в переводе Пушкина)? Поставить очередную книгу на полку и карточку в библиотечный каталог не трудно, но культурная память народа пополняется в исключительных случаях, исключительными силами.
Нет слез в очах, уста молчат,
От тайных дум томится грудь,
И эти думы вечный яд, —
Им не пройти, им не уснуть!
Байрон, созданный Лермонтовым на русском языке.
…Тираны давят мир, — я ль уступлю?
Созрела жатва, — мне ли медлить жать?
На ложе — колкий терн, я не дремлю:
В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце…
Блок и Байрон… Но ведь «Не презирай сонета, критик», стихотворение Вордсворта, ввел в наш обиход Пушкин, баллады Роберта Саути переведены Жуковским. С другой стороны, Байрона, за несколькими исключениями, переводили посредственно, а он стал «властителем дум», наших дум. История расставила имена, произведения, достоинства, недостатки поэтов по своей, проверенной, очень стойкой шкале, и это только кажется, будто подвергнуть пересмотру такой приговор довольно легко — исследовать, перевести, издать…
Байрон и его современники, пережившие разлад со своей эпохой, возлагали большие надежды на суд будущего. Гениально одаренный и в свое время «убитый критикой», Джон Китс выразил это особенно отчетливо в стихах о славе-«дикарке»: она бежит от поэта, когда он стремится утвердить себя во мнении читателей, и, напротив, послушно следует за ним, когда ему все равно, когда поэта, быть может, уже нет в живых. Китс, казалось бы, испытал это на себе, он критикой позднейшей был не только воскрешен, но превознесен выше всякой меры, будто некое земное божество, само олицетворение поэзии. Еще более поразительно даже не воскрешение, а открытие старшего современника английских романтиков, их предшественника — Вильяма Блейка. В свое время он был не то что «убит» или уничтожен критическим к себе отношением. Его как бы не заметили, он вроде не существовал для своих современников, в том числе даже для таких, как Байрон.
Открыв для себя новое и вместе с тем старое имя, мы сразу начинаем думать, будто мы объективнее, прозорливее и, так сказать, «умнее» современников поэта. Но точно ли представляем мы себе, в чем состоял приговор истории поэту?
Что за мастер, полный силы,
Свил твои тугие жилы
И почувствовал меж рук
Сердца первый тяжкий стук?
Что за горн пред ним пылал?
Что за млат тебя ковал?
Кто впервые сжал клещами
Гневный мозг, мотавший пламя?
«Тигр» Блейка (в переводе С. Я. Маршака) — эти стихи современники знали, заучивали их наизусть, передавали из уст в уста. Таких стихов нельзя не знать. «Нам нечего было сказать об эпохе, если бы она отвергла такого поэта», — говорит исследователь о Шекспире, которого, как оказывается, его эпоха знала и ценила, хотя длительное время считалось, будто «поэт поэтов» обрел славу только в веках. Между прочим, романтики всеми силами развивали мысль о «безвестном Шекспире», принимая его в таком, «безвестном», варианте за образец поэтической судьбы. Сами они шли подчас на заведомое «непризнание», добиваясь его почти так же, как славы. Это был пункт их поэтической программы, выполнявшейся ими неукоснительно во имя утверждения личности.
Вот что у них при этом получалось.
«О, я страдаю!.. Интересно, а как я, объятый страданием, выгляжу?» — фраза эта не подлинная, карикатурная, из сатирического романа, который был написан тогда же, в романтическую пору, и очень похоже изображал целый кружок английских романтиков. Насколько похоже, судить можно по тому, что романтики не только не обиделись на автора, но даже сами, при всем их, так сказать, программном самолюбии, снабжали автора материалом. Ситуация с разглядыванием собственных «страданий» была подсказана Шелли, имевшим в виду прежде всего себя. Был там и Байрон, выведенный под именем Сэра Кипариса. Был Кольридж, изъяснявшийся в ответ на пустяковые вопросы заумным философским жаргоном: на простые вопросы поэт-мыслитель вовсе не знал ответа. И, кажется, даже Кольридж не обиделся. Сатира была остра, смешна и вместе с тем, как видно, поддерживала по-своему все ту же программу романтического индивидуализма. Сатирик не обидел своих друзей-романтиков потому, что, посмеявшись над их слабостями, он все-таки выдержал объективную мору оценки: посмеялся, не отрицая, что это гениальные головы.