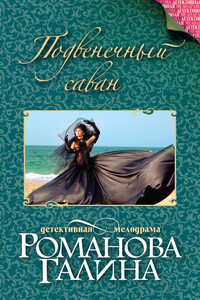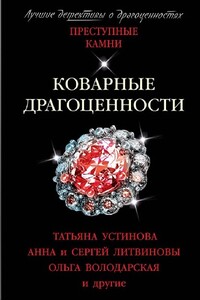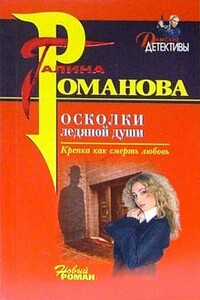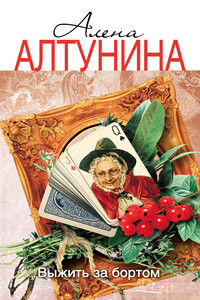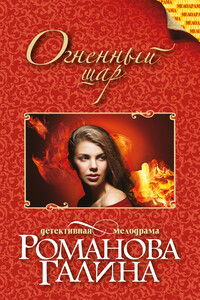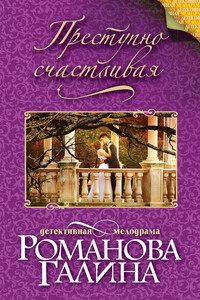Город заливало солнечным светом – ярким, оранжевым. В нем тонули улицы, люди, автобусы, скверы. Сорванные легким ветром последние листья медленно плыли по воздуху. А звуки, проникающие сквозь его окно, казались вязкими, маслянистыми. Их даже можно было пощупать – шелковистый девичий смех, острый и колючий, как клубок шерсти, собачий лай, шуршащий бумажный шелест метлы по брусчатке.
Ничего, с неожиданным раздражением подумал он, поворачиваясь к яркому воскресному городу спиной, уже завтра похолодает. Уже завтра все станет серым и невзрачным. Тогда не до смеха будет.
Не до смеха теперь было ему – здоровому, симпатичному мужику тридцати пяти лет, оставшемуся без работы и не знающему, куда применить свои силы, знания, ум. И что обиднее всего, без работы он остался по собственному желанию. Не по семейным обстоятельствам, не в связи с переменой места жительства, не потому, что не сработался и оказался не понят. Нет! Просто по собственному желанию!
– Ты идиот, Лавров, – подвела черту неделю назад под его объяснением соседка Маша Астахова. – Ты же ничего не умеешь больше! Ничего!
– Почему? – удивился он и даже обиделся.
– А что ты умеешь, Саша? Ремонт делать? Нет! С паяльником сидеть? Нет! Компьютерные программы придумывать? Снова нет! Ты же ничего не умеешь! А знаешь почему?
– Почему?
Он продолжил на нее обижаться, хотя в глубине души понимал, что она права. Ничего из перечисленного он не умел. И даже никогда не пробовал ни с ремонтом возиться, ни с паяльником.
– Потому что ты, Саша, – мент! Мент с большой буквы! Ты таким родился, Саша. И когда родился, вся природа замерла!
И Машка заржала своим странным блеющим смехом, как овечка, накручивая кончик своей косы себе на кулачок.
– Может, и мент. И что? – забубнил Лавров. – Я многим людям помог.
– И продолжал бы помогать дальше, Лавров! Чего уволился-то?
– Не знаю. Навеяло, – пожал он тогда – неделю назад – широченными плечами. – Взял и уволился. Достало все.
– Я же говорю, идиот, – удовлетворенно улыбнулась она, покивав прехорошенькой головкой. – Теперь-то куда, Саша?..
А вот теперь куда, он и не знал. Он ничего не умел! Ничего! Умел ловить бандитов, распутывать сложные преступные комбинации, умел в ворохе ненужной информации выбрать то, что необходимо. И все! Никакими прикладными искусствами не владел. Как плотник или столяр был бесполезен. И вообще все, хватит! Завтра вот похолодает, снег пойдет, тогда узнают они все…
Три глухих удара в дверь – так ломилась только Машка – его вдруг обрадовали.
– Чего тебе? – с наигранной ворчливостью встретил он ее на пороге. – Соль или спички закончились? Сколько раз говорил: купи зажигалку.
Машка стояла на его пороге, как Афродита, только что вынырнувшая из морской пучины. С длинными – до попы – распущенными волосищами, заспанной мордахой и почти в чем мать родила. Малюсенькие какие-то трусишки, именуемые ею спортивными шортами. Рубашонка до пупка такая тонюсенькая, прозрачная, что на ней словно и не было ничего.
– Маш, ты когда одежду уже начнешь носить? – произнес Лавров со вздохом, чуть отступая в сторону, чтобы пропустить соседку.
– Я в одежде, – буркнула она недовольно и, виляя едва прикрытой попкой, сразу пошла в кухню.
– Я мужик все же, Машка. Не стыдно тебе так вот передо мной появляться? – ворчал Лавров, следуя за ней по пятам.
– Ты, Саша, не мужик, – изрекла она со смешком, сразу принявшись открывать крышки кастрюлек, стоящих на плите.
– А кто же, простите? – Он снова подумал, что готов обидеться.
– Ты, Саша, мент. И мой сосед уже сто лет. А это почти что брат. И поэтому я не могу тебя стесняться. Ты же вот тоже передо мной стоишь в трусах – и ничего.
Упрек был принят. Лавров сходил в комнату, натянул широченные джинсовые шорты, в которые двое таких, как он, влезли бы запросто, вернулся в кухню. Машка уже наложила себе каши, которую он приготовил на завтрак себе, между прочим. Села на его любимое место в уголочке, из-за чего он постоянно злился. И теперь облизывала ложку, которой накладывала кашу, и смотрела на него как-то странно.
– Чего? – Он сел напротив, на самое свое нелюбимое место – спиной к двери, он не терпел так сидеть за столом. – Ну! Говори!
– Только не ори, ладно? – Машка опустила синие глазищи вниз, уставилась на тарелку каши.
– Только не это, Маш!
Он не заорал, он взвизгнул так, что она поморщилась. Она что – эта дурища с косищей, снова собралась замуж?! В третий раз?! В неполные тридцать лет снова замуж?! В третий раз?!
– Не ори, – буркнула она.
И тут же забила себе рот тремя ложками каши, щеки раздулись, она начала медленно жевать. Это, надо полагать, для того, чтобы не отвечать на его немой вопрос.
Значит, правда!
– Маша, Маша, опомнись! Тебе еще и тридцатника нет, Маша! – принялся тут же Лавров ее увещевать, поняв по ее забитому кашей молчанию, что да – она собралась в очередной раз замуж. И ничего уже с этим поделать нельзя. – Чего ты так летишь-то туда?
– Пока берут, – пробубнила она сквозь кашу, пожав плечами.
– Кто берет-то?! Кто?! Урод на уроде! И где ты их только откапываешь?!