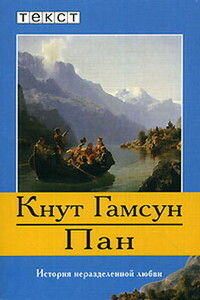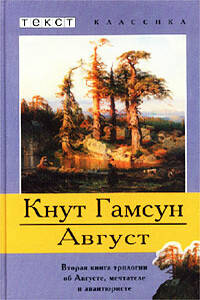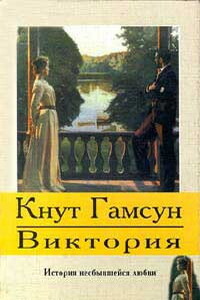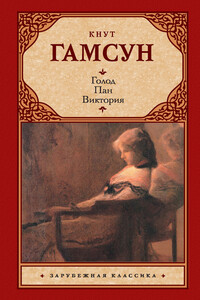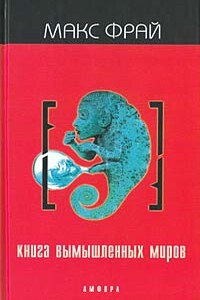Прошло три недѣли съ того дня, какъ я высадился на берегъ въ Америкѣ, а между тѣмъ я только теперь въ состояніи послать вамъ этотъ отчетъ о моемъ путешествіи. Очень жалѣю, что не могъ сдѣлать этого раньше, но духъ былъ силенъ, а плоть была немощна. Въ срединѣ августа я покинулъ Норвегію, гдѣ мы уже даннымъ давно облачились въ пальто, а черезъ три недѣли попалъ въ страшную жару, доходившую до 90° по Фаренгейту въ тѣни. Такая жара сильно утомляла меня и разстроило мое, обыкновенно прекрасное, сентябрьское самочувствіе.
Я хочу попытаться все описать вамъ изъ голой вы, вотъ такъ — прямо по памяти. Да у меняи нѣтъ ни одного клочка изъ всѣхъ тѣхъ важныхъ для меня бумагъ, которыя были со мной на пароходѣ: все пропало. Всѣ мои записи, замѣтки исчезли въ одну прекрасную ночь у Нью-Фаундлендской мели. У каждаго на моемъ мѣстѣ помутился бы разумъ, у меня же при этомъ не вырвалось даже и крика. Я только опустился на свой желтый чемоданъ и, какъ мужчина, покорился непоправимому, невозвратимому. И къ утру я настолько уже владѣлъ собой, что оказался даже въ состояніи проглотить чашку чая.
* * *
Итакъ, мы оставили позади мостъ въ Христіаніи послѣ того, какъ усердно отмахали платками наши прощальныя привѣтствія, и шкиперъ представилъ всѣ квитанціи на весь грузъ эмигрантовъ, который пароходъ везъ съ собой.
— Теперь уже нельзя вернуться назадъ? — спросилъ мой юный спутникъ плаксивымъ голосомъ.
— Можно — въ Христіанзундѣ, но, надѣюсь, ты не сдѣлаешь этого?
— Ну, тогда я напьюсь и такъ проѣду много, много миль отъ моей родины! — прорыдалъ онъ.
Охъ, ужъ этотъ зеленый юноша! Ему едва только минуло семнадцать лѣтъ, и онъ еще никогда въ жизни не покидалъ домашняго крова.
Поднялись шумъ и суматоха. Шестьсотъ человѣкъ сновали взадъ и впередъ по налубѣ и стаскивали горы богажа въ трюмъ. Тутъ были и обѣднѣвшіе горцы изъ нашихъ высокихъ и безплодныхъ горныхъ долинъ, крестьяне съ датскихъ острововъ, ширококостые шведы, нищіе, бѣдные люди, обанкротившіеся купцы изъ городовъ, ремесленники, женщины, молодыя дѣвушки и дѣти.
— Однимъ словомъ, здѣсь была вся переселенская Скандинанія.
— Да мы уже идемъ? — сказалъ мой сосѣдъ. — Случалось ли вамъ и раньше бывать по ту сторону океана?
— Да.
Говорившій былъ человѣкъ лѣтъ тридцати, толстый, веснушчатый, безбородый. На груди у него болталась цѣпочка, сплетенная изъ бѣлокурыхъ волосъ, на шеѣ красовался бѣлый засаленный галстукъ, и уши у него были проколоты.
— Красивая страна — та, которую мы покидаемъ, — продолжалъ онъ, — самая красивая на всемъ свѣтѣ.
И его добродушные глаза засіяли.
— Почему же вы въ такомъ случаѣ покидаете ее?
Оказалось, что совершенно особыя обстоятельства были тому причиной. Онъ былъ семинаристомъ и одно время учительствовалъ. Звали его Нике, Кристенъ Нике. Затѣмъ онъ вступилъ въ какой-то теологическій споръ съ пасторомъ Магнусомъ, и этотъ споръ кончился тѣмъ, что онъ лишился своего учительскаго мѣста. Онъ разсказалъ о своемъ воззваніи къ гласности, къ общественному мнѣнію, о четырехъ длинныхъ статьяхъ, помѣщенныхъ имъ въ монастырскихъ вѣдомостяхъ, и о томъ, какъ онъ безстрашно отвѣтилъ на письмо епископа: «Господинъ епископъ, ваше преосвященство можетъ отъ меня требовать невозможнаго, но исполнить этого я не могу»…
На лицѣ учителя отразилось необычайное воодушевленіе.
Нѣсколько человѣкъ присоединились къ намъ и прислушивались къ рѣчамъ возбужденнаго оратора.
На верхней палубѣ возстановились въ нѣкоторомъ родѣ порядокъ и тишина, такъ что господинъ Нике могъ ораторствовать безъ особой помѣхи; только изъ люковъ, ведущихъ на нижнюю палубу, раздавался гулъ отъ громкаго говора людей, занятыхъ уборкой своего багажа и защищающихъ силою своихъ кулаковъ свои права на койку.
Четыре молодыя особы, въ нѣсколько эксцентричныхъ костюмахъ, извѣстныхъ подъ названіемъ «костюмовъ Карлъ-Іоганнъ», задорныя, съ темными кругами подъ глазами, попарно прохаживались мимо насъ, весело болтая. Онѣ какъ бы желали ознакомиться съ мѣстностью въ предвидѣніи будущихъ побѣдъ и оглядывались кругомъ большими, удивленными голубыми глазами, заговаривали съ каждымъ встрѣчнымъ матросомъ и безстрашно перелѣзали черезъ багажные тюки, преграждавшіе имъ дорогу, не вынимая даже своихъ маленькихъ полненькихъ ручекъ изъ кармановъ пальто. Если же которая-нибудь изъ нихъ оступалась, то всѣ онѣ начинали громко хохотать и находили, что на пароходѣ живется превесело.
Я спустился внизъ, чтобы отыскать себѣ койку по сосѣдству съ возможно болѣе чистоплотными сосѣдями. Но оказалось, что объ этомъ уже позаботился мой юный спутникъ: онъ сидѣлъ, точно императоръ на тронѣ, на своемъ соломенномъ тюфякѣ и отражалъ каждую попытку овладѣть нашими койками потокомъ гнѣвныхъ словъ.
* * *
Невдалекѣ отъ насъ находились койки Кристена Нике и его товарищей. Изъ нихъ двое были, по словамъ господина Нике, «самыми обыкновенными ремесленниками»; у нихъ былъ общій кошелекъ и общій чемоданъ, хотя они и не были братьями. Третій товарищъ обладалъ болѣе нѣжными руками и веселымъ, плутоватымъ лицомъ. Онъ происходилъ изъ купеческой семьи. Этотъ маленькій смѣшной человѣчекъ во все время нашего плаванія поддерживалъ въ насъ бодрость и веселость. Не страдая отъ морской болѣзни, всегда веселый, охотно всѣмъ помогавшій и всегда готовый ко всему и на все, онъ носился среди пассажировъ, расточая повсюду свои шутки и остроты. Самъ же онъ находилъ удовольствіе только въ одномъ, а именно — въ постоянномъ подтруниваніи и поддразниваніи своего товарища по путешествію, Нике, котораго онъ звалъ всегда просто по имени — Кристенъ, такъ что миръ и согласіе бывали весьма рѣдкими гостями въ ихъ бесѣдахъ. Случалось иногда, что онъ будилъ семинариста среди глубокой ночи, чтобы освѣдомиться о его здоровьѣ или же чтобы сообщить ему, который часъ, и Нике просыпался взбѣшенный и клялся жестоко отомстить бездѣльнику за его продѣлки, а затѣмъ оба опять мирно засыпали. Теперь всѣ были въ сборѣ въ ожиданіи обѣда.