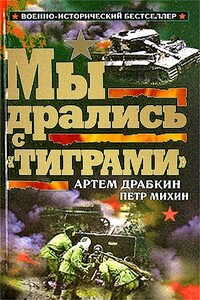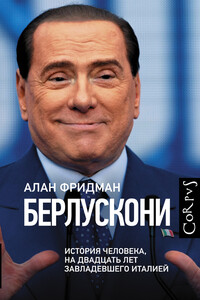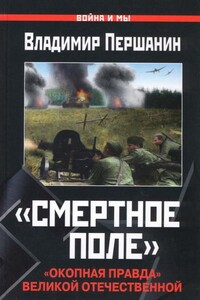У моего дневника…
(если так можно назвать отрывочные мысли и наблюдения, записанные в то время, когда войсковая часть выводилась из боя на переформировку; писалось это на клочках бумаги, сшитых нитками, которые мы добывали из тесемок от немецких противогазов. Вести дневники категорически запрещалось, и я очень рисковала, делая это, но мне так хотелось хоть что-то запечатлеть, и я делала это украдкой…)
…так вот, у этих записок трудная солдатская судьба. Часть эти записей попала к немцам в сорок первом году под Москвой, часть была зарыта в землю в сорок втором во время отступления, часть в сорок третьем году во время освобождения Днепропетровска при переправе через Днепр вымокла в воде, часть испортилась на жаре в Белоруссии — находясь в вещмешке вместе с трофейными немецкими светильниками (они были заполнены каким-то составом вроде воска), так вот, этот воск или жир растаял и залил все эти записки; потом, с большим трудом разбирая текст, мне пришлось все переписывать в тетради.
Бой есть самое тяжелое испытание моральных, физических качеств и выдержки бойца.
БУП-42[1]
Первый год войны
Решила все-таки кое-что записывать. 15 июля 1941 года для меня началась новая жизнь. Ночью нас подняли по тревоге, и в 4 утра мы выехали из Новочеркасска на фронт. Никто нас не провожает, никто не знает, что мы уезжаем. Я выехала не совсем обычно. Ни мама, ни папа ничего не знают. Они думают, что я лечу зубы. На первой станции написала открытку — сообщила, что еду на фронт, что иначе поступить не могла, просила простить меня и не волноваться. Долго я думала над своим поступком. Несколько дней назад мы всю ночь просидели с Аней. Она мне пыталась доказать, что я совершаю глупость, что незачем умирать раньше времени, что мы еще слишком молоды и должны учиться. Она считала, что, если нужно будет, — нас позовут. А я так не считала. Да, никому не хочется умирать на 17-м году жизни, только в этом она права. Еще две недели назад была мирная, чудесная жизнь, казавшаяся теперь сказкой. Не менее сказочное будущее открывалось перед нами. Я послала запрос в Николаевский кораблестроительный институт. Мне только что прислали программу вступительных экзаменов и приглашение приезжать к ним после окончания 10-го класса. Я мечтала строить корабли — непременно военные. На этот раз папа не возражал, он был категорически против мореходки, куда мы поступали вместе с Таней Орел.
И вот одно страшное слово — война — разрушило все. В голову приходят слова, складывающиеся в рифму.
Мы слово страшное услышали — война!!!
Услышали, что города пылают,
Что их стервятники со свастикой бомбят
И пограничники, не сдавшись, умирают.
Ты можешь за чужой спиной сидеть,
Когда над родиной твоей нависла смерть?
Я не могу, не имею права жить спокойно, учиться в то время, когда по нашей земле кровь льется рекой. Учиться никогда не поздно, но сейчас думать об этом — позорно. Интересы Родины — это мои интересы. Я не могу отделить себя от тех, кто кровью своей и жизнью защищает ее, сидеть за чужой спиной, когда стоит вопрос: быть или не быть? 23 июня я повела девчонок в военкомат, но к военкому мы не попали. К военкомату вообще подойти невозможно — тысячи людей толкаются, кричат, требуют, чтобы их немедленно отправили на фронт, но никто не обращает внимания на них, пропускают только с повестками. Весь день мы осаждали военкомат, и к вечеру все же удалось пробиться — влезли в окно, и мы подали заявление с требованием немедленно отправить нас на фронт. Мы написали, что имеем звание парашютистов, ворошиловских стрелков, можем оказывать первую медицинскую помощь раненым. В общем — кем угодно, только бы на фронт.
Через несколько дней девчонки получили повестки и уже ждут отправки на фронт. А мне в военкомате отказали, сказали, что еще слишком молода. Мы решили действовать через политрука той части, куда попали девочки (это ПЭП-12 — полевой эвакопункт). Втроем стали его упрашивать, но он не соглашался, говорил: «Куда ты поедешь, Чижик? Ты же плакать будешь там!»
А я ревела уже здесь оттого, что не брали меня. Целый час мы просили, убеждали, плакали, и наконец он сдался, и я написала заявление — в действующую армию и была от счастья на седьмом небе.
Мечта моя сбылась, я ведь и в мирное время мечтала служить в армии. Куда только не писала — и в Киевское училище связи, и в другие училища, и, наконец, маршалу Тимошенко, пока не получила от него вразумительный ответ — женщины в настоящее время на службу в кадры Красной Армии и военные училища не принимаются. Из нашего класса Олюшка Сосницкая, из 10-го Ира Шашкина, остальных девчонок я не знаю, за исключением Таи Куприяновой. Почти все плачут, а я пока нет, ведь нас никто не принуждает, едем добровольно.
Кто-то запел:
Дан приказ ему на запад,
Ей в другую сторону,
Уходили комсомольцы
Защищать свою страну.
Эшелон наш мчится на фронт, быстро мелькают станции, и почти на каждой станции — толпы людей. В вагон к нам бросают цветы. Мы проехали уже много городов — Воронеж, Курск, Брянск и др. Навстречу идет очень много эшелонов с эвакуированными из Житомира, Киева и других городов. С заводским оборудованием, со всем, что удалось спасти от немцев. Эвакуированные почти все евреи, и среди них очень много взрослых ребят, намного старше нас. Как им не стыдно? На кого же они надеются?