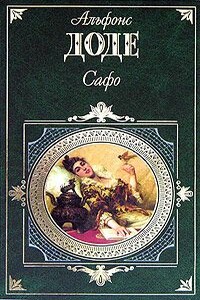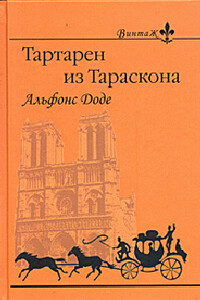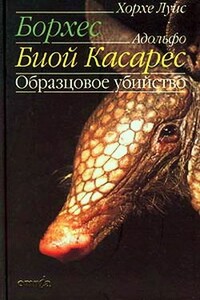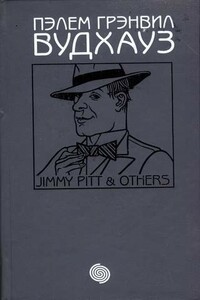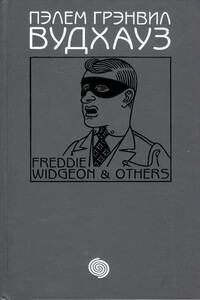Капитуляция[1]
© Перевод С. Ошерова
Написано 6 февраля 1871 г.
Не знаю, какую бравурную мелодию сыграют вам в бордоском Большом театре по случаю окончания осады и капитуляции Парижа, но если тебе интересно, какие чувства вызывает у меня вся эта печальная эпопея, то я скажу тебе в двух словах рая и навсегда: Наши доблестные генералы — чтоб их черт побрал — обороняли бывшую столицу так же, как они обороняли бы какой-нибудь Меэьер, Туль или Верден, то есть по неписаным правилам некоего военного свода законов, который со школьной скамьи хранится у них под кепи. Статья первая гласит: «Блокированная крепость не может сбросить блокаду сама». Исходя из этого, они решили попытаться прорвать ее извне.
Замечу мимоходом, что те же великие стратеги за восемь дней до начала осады с восхитительным самомнением утверждали, что нас могут взять приступом, одним мощным ударом, но обложить — ни за что на свете.
Ну так вот, прославленные полководцы, нас все-таки смогли обложить! У пруссаков широкая ладонь, и хотя у Парижа весьма обширная талия, они меньше чем в неделю сцапали его, словно осу, и сжали в своих грубых солдатских рукавицах. А ведь если бы вы были посмелее, мы могли бы вырваться… Париж — великан, надо было дать ему сразиться во всю меру его великанских сил, дать простор его уму, привести в движение все его мускулы. Когда вам помешала Марна,[2] надо было дать Парижу проглотить Марну. Эти недоброй памяти высоты Шатильона, Медона, Шампиньи,[3] все эти мельницы и пригорки, чьи нелепые кровавые имена преследовали нас даже во сне, — Париж мог одним рывком отправить их ко всем чертям. Это было бы делом одного месяца для четырехсот тысяч мотыг, работающих под защитой сотни тысяч ружей… Но вы этого не захотели.
Подлинную историю этой осады придется искать не в газетах и не в книгах, а в военном министерстве. Это здесь разыгрывались великие сражения под Парижем. Здесь о кожаные подушки под задами военных чиновников разбивались все попытки отдельных людей, все усилия доброй воли и пылкого энтузиазма, все великие планы обороны… Больно было смотреть, как министр Дориан[4] и его сотрудники по министерству общественных работ, такие деятельные, такие умные, носятся из канцелярии в канцелярию, унижаются, умаляются, просят, молитвенно сложив руки:
— Ради бога, господа военные! Мы сознаем свое ничтожество, мы знаем, что самые хитроумные из нас не могли бы служить в денщиках у ваших Гио, у ваших Фребо…[5] Да, вы правы, все наши инженеры ослы, их помощники ничего не смыслят, и тем не менее… испытайте наши пушечки седьмого калибра, заряжающиеся с казенной части, и наши походные кухни, которые будут раздавать солдатам в самой гуще сражения целые бочонки кофе и подогретого вина, и наши привязные воздушные шары, которые произведут разведку так, что это не будет стоить вам ни единого человека, и разузнают, в самом ли деле батареи, что устанавливают на Шатильонских высотах, состоят из одних печных труб…
И какой гордостью преисполнились эти молодцы из Общественных работ, когда после пятимесячных ходатайств, просьб, бумажной волокиты им удалось добиться того, что на передовых позициях появились пушки седьмого калибра, о которых один из наших великих полководцев сказал своим сипловатым голосом выходца из предместья:
— А все-таки эта купеческая артиллерия не так уж плоха! Надо будет закупить еще…
Слишком поздно, ваше высокопревосходительство! Пруссаки все разграбили…
…И вот все кончилось. Париж опять наелся белого хлеба с маслом. К тем временам нет возврата. Первые дни я злился — боже, до чего я злился! — но вот уже несколько дней, как я чувствую где-то глубоко, в самой глубине души, какое-то умиротворение и разрядку. Ах, дорогой друг, уж очень долгой, томительной, однообразной была эта осада! Мне кажется, будто я провел пять месяцев в открытом море, гладь которого почти ни разу не всколыхнулась.
И подумать только, что для иных эти пять месяцев изнуряющей тоски были сплошным праздником, непрерывным опьянением! Всех, от праздношатающихся из предместья, бездельем зарабатывающих сорок пять су в день, вплоть до майоров с семью нашивками — строителей комнатных баррикад, благоденствующих санитаров, лоснящихся от наваристого мясного бульона, опереточных вольных стрелков, распускающих хвост по кафе и подзывающих официантов не иначе, как омнибусным свистком, вплоть до командиров национальной гвардия, расположившихся со своими дамами в конфискованных квартирах, вплоть до всяческих перекупщиков, всяческих мародеров, ворующих собак, охотящихся за кошками, торгующих кониной, альбумином, желатином, разводящих голубей или владеющих дойной коровой, вплоть до все тех, чьи векселя были переданы уже судебному приставу, и тех, кто просто не любит платить за квартиру, — всех этих людей конец осады поверг в далеко не патриотическое отчаяние. С Парижа снята осада — значит, надо входить в колею, работать, смотреть в лицо жизни, надо отдать нашивки, квартиры, возвращаться в свою конуру, а это нелегко…
Я не собираюсь клеветать на республику. Во-первых, я еще не знаю, что это такое; во-вторых, я видел вблизи людей и дела империи, следовательно, я не имею права быть привередливым. Но что мне я могу с собой поделать, если все происходящее вокруг меня после 4 сентября наполняет мое сердце горечью и недоверием, еще большим, чем прежде? Все дураки, все рохли, все лентяи и никчемные тупицы, каких я только знал, вдруг выплыли на поверхность и пристроились к теплым местечкам. Разумеется, я не говорю об убежденных, преданных республиканцах, долго ждавших своего дня: теперь пришел их черед, и это справедливо. Но другие, те, кого злосчастная империя не пускала даже на кухню, — все они к чему-нибудь приспособились, все до единого! Вплоть до этого жалкого и презренного Н., который уже тогда, когда империя была при последнем издыхании, у всех на глазах обивал пороги министерств, выклянчивая какое угодно место, и вот, посмотрите — сейчас он комиссар республиканской полиции в одном из округов.