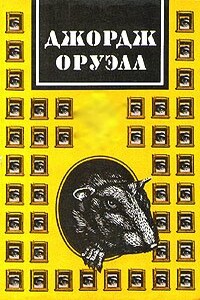Моей маме Зинаиде Павловне Павловой (рожд. Латышевой)
Эта книга — итог многолетнего изучения личного архива Федора Сологуба. Уникальное собрание рукописей и документов писателя в Пушкинском Доме по своему богатству не уступает находящимся там же бесценным архивам его литературных соратников — А. Блока, М. Волошина, Н. Минского и З. Венгеровой, Иванова-Разумника, А. Ремизова и немногих других, а по своей сравнительно малой исчерпанности остается подлинным «Клондайком» для историков русского модернизма.
Мои разыскания сосредоточивались главным образом вокруг первых двадцати лет писательской деятельности Ф. Сологуба — с момента вступления в литературу (1884) до завершения работы над романом «Мелкий бес» (закончен в 1902). Результаты этих разысканий в разные годы публиковались в периодических изданиях и научных сборниках. Частично переработанные и дополненные новыми материалами, они сложились в настоящий очерк[1].
Центральное место здесь уделено роману «Мелкий бес» — вершинному произведению Ф. Сологуба и его пути к этой вершине. Каким бы образом он ни оценивал свой шедевр в разные годы (в зрелости, например, считал его нелепой выдумкой: «безумие Передонова превращает весь роман в анекдот»[2]), «Мелкий бес» всегда оставался для него главным текстом, был оправданием жизненного пути, вызывал удовлетворение и гордость (при жизни издавался 11 раз).
В первые двадцать лет, помимо этого произведения, давшего «значительный толчок к обновлению русского реализма»[3], Сологубом были написаны «Тяжелые сны» (1895) — один из первых романов русского модернизма, вышли сборники рассказов «Тени» (1896) и «Жало смерти» (1904), книги стихов и «Книга сказок» (1905), по-своему предвосхитившая авангардную прозу обэриутов.
В следующие двадцать лет Сологуб выпустил в свет множество томов и томиков сочинений, однако высот, сопоставимых с прежними художественными достижениями, не достиг. Роман-трилогия «Творимая легенда» (1907–1913), по мнению автора, претендовавший занять равноправное место рядом с «Мелким бесом», все же не обрел статуса шедевра (заметим, что в наши дни у него есть все необходимое, чтобы стать добычей постмодернистского дискурса[4]).
Попытка воссоздать облик художника в трудах и днях и в самое напряженное для него время — в период «бури и натиска», первых успехов и поражений, прокомментировать их литературный резонанс и значение — задача увлекательная, но, как оказалось, не простая.
В отличие от А. Блока, А. Белого, З. Гиппиус, В. Брюсова, М. Кузмина, М. Горького и других современников, Сологуб не оставил нам «говорящих» документов, на которые можно было бы опереться при осмыслении его жизненного и творческого пути: нет ни автобиографии, ни воспоминаний, ни дневников и записных книжек (таких, как, например, у Блока)[5]. Это вполне соответствует его поэтической «декларации»:
Что мне мир. Он осудит
Иль хвалой оскорбит.
Темный путь мой пребудет
«Канва к биографии»[7], составленная писателем, по-видимому, незадолго до смерти, представляет собой план-конспект более полного жизнеописания, над которым он предполагал работать (или же, напротив, уже успел уничтожить). Отдельные фрагменты этого текста напоминают краткий набросок к «Тяжелым снам»: факты личной жизни чередуются с упоминаниями о персонажах романа. Эта особенность единственного сохранившегося автобиографического документа вызывает сомнения в степени достоверности сообщенных в нем сведений.
Эпистолярное наследие Сологуба также содержит весьма скупые данные о его внутренней жизни. В декабре 1927 года П. Н. Лукницкий записал со слов А. А. Ахматовой:
Думает, что Сологуб вряд ли поддерживал с кем-либо (особенно в последние годы) переписку (такую, которая была бы — как переписка Блока — творчеством). Сологуб в Царском Селе сказал ей, что не переписывается ни с кем, потому что считает, что писать письма — значит отдавать какую-то часть самого себя. Зачем это делать? Правда, это могло быть сказано Сологубом исключительно из любви к парадоксам[8].
Предположение Ахматовой оправдалось. В апреле 1928 года О. Н. Черносвитова сообщала сестре Т. Н. Чеботаревской впечатление о характере просмотренных ею трех с половиной тысяч писем сологубовского архива перед передачей его в Пушкинский Дом:
Переписка большей частью делового характера, устройство лекций по всей России, издатели, редакторы, по частным объявлениям (целые годы — о переписчицах, натурщицах[9], домах, дачах), и, конечно, много также от товарищей по перу (Мережковские, Андреев, Блок и т. д.) — не особенно интересно, т. е. не так интересно, как можно было бы ожидать, потом большое количество от читателей и почитателей обоего пола и, наконец, от родных[10].
Г. Иванов вспоминал, что «однажды, в минуту откровенности» Сологуб признался в разговоре с Блоком: «Хотел бы дневник вести. Настоящий дневник для себя. Но не могу, боюсь. Вдруг, случайно, как-нибудь, подчитают. Или умру внезапно — не успею сжечь. Останавливает меня это. А, знаете, иногда до дрожи хочется. Но мысль — вдруг прочтут, и не могу»[11].
Даже если допустить, что мемуарист «вспомнил» разговор, которого никогда не было, его художественный домысел выглядит весьма убедительным. В дневниковой записи от 27 ноября 1923 года К. Чуковский сообщал, что предложил Сологубу писать мемуары и получил следующий ответ: «Мемуары? Я уже думал об этом. Но в жизни каждого человека бывают такие моменты, которые, будучи изложены в биографии, кажутся фантастическими, лживыми. Если бы я, напр<имер>, описал свою жизнь правдиво, все сказали бы, что я солгал. <…> Но биографии писать я не стану, т<ак> к<ак> лучше всего умереть без биографии. Есть у меня кое-какие дневники, но когда я почувствую, что приближаются минуты смерти, — я прикажу уничтожить их. Без биографии лучше. Я затем и хочу прожить 120 лет, чтобы пережить всех современников, которые могли бы написать обо мне воспоминания»