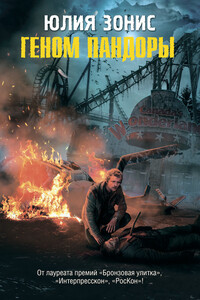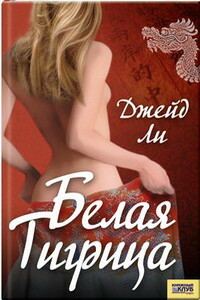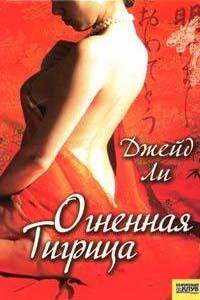Говорят, тонущий в последнюю минуту забывает страх, перестает задыхаться. Ему вдруг становится легко, свободно, блаженно. И, теряя сознание, он идет на дно, улыбаясь.
К 1920-му году Петербург тонул уже почти блаженно.
Голода боялись, пока он не установился "всерьез и надолго". Тогда его перестали замечать. Перестали замечать и расстрелы.
— Ну, как вы дошли вчера, после балета?..
— Ничего, спасибо. Шубы не сняли. Пришлось, впрочем, померзнуть с полчаса на дворе. Был обыск в восьмом номере. Пока не кончили, — не пускали на лестницу.
— Взяли кого-нибудь?
— Молодого Перфильева и еще студента какого-то, у них ночевал.
— Расстреляют, должно быть?
— Должно быть…
— А Спесивцева была восхитительна.
— Да, но до Карсавиной ей далеко.
— Ну, Петр Петрович, заходите к нам…
Два обывателя встретились, заговорили о житейских мелочах и разошлись.
Балет… шуба… молодого Перфильева и еще студента… А у нас, в кооперативе, выдавали сегодня селедку… Расстреляют, должно быть…
Два гражданина Северной Коммуны мирно беседуют об обыденном.
Гражданина окликает гражданин:
Что сегодня, гражданин, на обед?
Прикреплялись, гражданин, или нет?..
И не по бессердечию беседуют так спокойно, а по привычке. Да и шансы равны — сегодня студента, завтра вас.
…Я сегодня, гражданин, плохо спал —
Душу я на керосин променял.
Об этом беспокоились еще: как бы мне променять душу "на керосин" без остатка. И — кто устраивал заговоры, кто молился, кто шел через весь город, расползающийся в оттепели или обледенелый, чтобы увидеть, как под нежный гром музыки, в лунном сиянии, на фоне шелестящих, пышных бумажных роз — выпорхнет Жизель, вечная любовь, ангел во плоти…
Поглядеть, вздохнуть, потом обратно ночью через весь город.
Над кострами искры золотятся,
Над Невою полыньи дымятся,
….. И шальная пуля над Невою
Ищет сердце бедное твое…
Ну, может быть, сегодня еще до моего не доберется. Чего там!
x x x
Петербургская сторона — Плуталова улица. Место глухое, настолько глухое, что даже милиция сюда не заглядывает. Иначе не обнаглел бы какой-то проживающий здесь спекулянт до того, чтобы прибить у дверей вывеску о своей торговле. На вывеске стоит черным по белому: "Здесь продаеца собачье мясцо".
На Плуталовой живет В., занимает комнату с кухней в грязном шестиэтажном доме.
В. - бывший писатель. Что-то печатал лет пятнадцать тому назад, чем-то даже «прошумел». Теперь пишет "для себя", т. е. ничего не пишет, делает только вид.
В минуты откровенности — признается: "Плюнул на литературу — жить красиво, вот главное".
Он странный человек. Писанье его бесталанное, но в нем самом "что-то есть". Огромный рост, нестриженая черная борода, разбойничьи глаза навыкате — и медовый монашеский говор. Он то сидит неделями в своей «квартире», обставленной разной рухлядью, считаемой им за старину, с утра до вечера роясь в книгах, то пропадает на месяцы, неизвестно куда.
— Где это вы были, В.?
Улыбочка. — Да вот, на Афон съездил…
— Зачем же вам было на Афон?
Та же улыбочка. — Так-с, надобность вышла. Ничего, славно съездил.
Только, досадно, в дороге кулек у меня украли и с драгоценными вещами: бутылкой зубровки старорежимной — вот бы вас угостил — и частицами святых мощей…
Через полгода — опять. — Где пропадали? — Да на Кавказе пришлось побывать, в монастыре одном…
Вот к этому эстету из семинаристов, с наружностью оперного разбойника, я решил пойти переночевать.
Дело было такое: я засиделся у знакомых на Петербургской стороне (а жил в самом конце Бассейной). Когда собрался уходить — оказывается, без четверти одиннадцать, и, если идти домой, обязательно попаду на обход и в участок, так как не только ночного пропуска, но и обыкновенной трудкнижки у меня нет. Ночевка в милиции — вещь неприятная, да и вопрос еще, как обернется наутро: могут отпустить, могут и отправить в Чека. Воскликнуть, как Мандельштам (кстати, смертельно милиции боявшийся):
Мне ночного пропуска не надо,
Часовых я не боюсь
— было бы неблагоразумно. У знакомых, где я засиделся, ночевать было негде. Я и вспомнил о В., жившем неподалеку.
Тяжелого висячего замка на входной двери не было — значит, дома. Но на стук мой никто не ответил. Неужели ушел? Я постучал сильнее. Шаги и голос В.:
— Что ломишься в такую рань? Проваливай. До двенадцати все равно не пущу.
Решив, что это вряд ли ко мне относится, я постучал еще и назвал себя.
В. сейчас же открыл.
— Голубчик! Какими судьбами? Желаете согреться?
— Он пододвинул мне рюмку.
Сам В. уже, по-видимому, «согрелся» на сон грядущий. Ворот косоворотки расстегнут, лицо красное, в глазах маслянистый блеск. Впрочем, это было обычное его состояние — ни пьян, ни трезв. Вечное "навеселе".
Узнав о моем намерении переночевать, В. как-то засуетился.
— Да если вам неудобно, вы скажите, я уйду.
— Что вы, что вы, дорогой. Очень удобно, очень приятно. Только…
Он опять забегал глазами…
— Вам-то будет ли удобно?
— Обо мне не беспокойтесь.
— Конечно, конечно… Но будет ли вам?.. Крепко ли вы спите?
— Очень. К тому же чрезвычайно устал, — целый день на ногах, прямо валюсь…
— Вот, вот… — В., по-видимому, обрадовался. — А то ко мне придет тут… Один книжник… Сосед… Книжки кой-какие разобрать… Так я боялся, не помешаем ли мы вам.