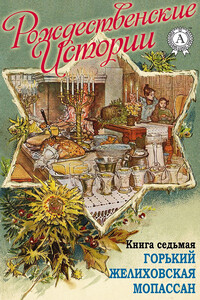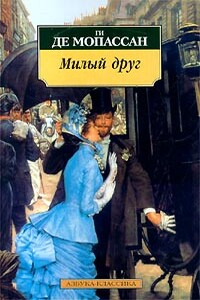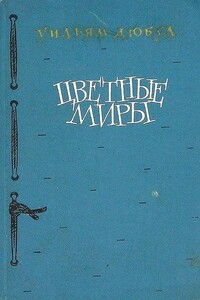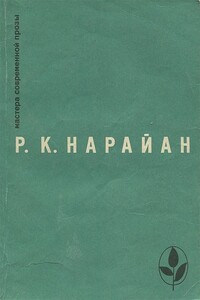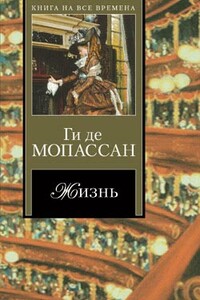Всю неделю г-н Патиссо плохо работал в министерстве. Он мечтал о прогулке, намеченной на следующее воскресенье, и его вдруг страшно потянуло в поля: ему захотелось умиляться, глядя на деревья, им овладела тоска по сельскому идеалу, томящая весной парижан.
В субботу он лег рано и встал с рассветом.
Его окно выходило во двор, узкий и темный, похожий на дымоход, откуда постоянно исходили зловонные запахи бедных квартир. Он поднял глаза на квадратик неба между крышами, на клочок синевы, уже залитый солнцем и беспрестанно прорезаемый быстрым полетом ласточек. Оттуда, наверно, им видны, подумал он, далекие поля, зелень лесистых холмов, беспредельные просторы...
И ему страстно захотелось окунуться в лесную прохладу. Он поспешно оделся, обул свои чудовищные башмаки и долго зашнуровывал гетры, с которыми еще не научился обращаться. Потом взвалил на спину мешок с мясом, сыром, бутылками вина (от ходьбы, наверно, появится волчий аппетит) и вышел с палкой в руках.
Он сразу взял бодрый, размеренный шаг («как у стрелков», — подумал он) и стал насвистывать веселые мотивы, от которых походка становилась еще легче. Прохожие оборачивались на него, какая-то собака тявкнула, кучер, проезжая мимо, крикнул ему:
— Добрый путь, господин Дюмоле![1]
Но это ничуть не смущало Патиссо; он шел, не оборачиваясь, все ускоряя шаг и молодецки вертя палкой.
Город радостно просыпался в тепле и сиянии прекрасного весеннего дня. Фасады домов сверкали, канарейки заливались в клетках, веселье носилось по улицам, оживляя лица, рассыпая повсюду смех; казалось, все окружающее преисполнено довольства в ясном свете восходящего солнца.
Направляясь к Сене, чтобы сесть на пароходик и ехать в Сен-Клу, Патиссо проследовал по улице Шоссе д'Антен, по бульвару, по улице Руаяль, возбуждая изумление прохожих и мысленно сравнивая себя с Агасфером. Но когда он переходил на другой тротуар, железные подковы его башмаков скользнули по камням, и он тяжело рухнул на мостовую, гремя заплечным мешком. Прохожие подняли г-на Патиссо, и он уже более медленно дошел до Сены, где стал ждать пароходика.
Он увидел его далеко-далеко под мостами; пароходик, сначала совсем крошечный, быстро увеличивался, становился все больше, принимая в воображении Патиссо размеры океанского парохода, на котором он отправится в дальнее плавание, переплывет моря, увидит неведомые народы, невиданные вещи. Пароходик причалил, и Патиссо взошел на него. Там уже сидели люди, разодетые по-праздничному, в ярких нарядах, с пестрыми лентами на шляпах. Патиссо прошел на нос и остановился там, расставив ноги, изображая собою моряка, которому довелось немало поплавать. Но, опасаясь покачиваний пароходика, он для сохранения равновесия опирался на палку.
После станции Пуан дю Жур река расширялась, спокойно струилась под ослепительным солнцем; потом, когда прошли между двумя островками, пароходик стал огибать холм, из зелени которого выглядывали белые домики. Чей-то голос объявил Ба-Медон, потом Север, наконец, Сен-Клу. Патиссо сошел на берег.
Очутившись на набережной, он сразу же развернул штабную карту, чтобы не допустить ошибки.
Все, впрочем, было совершенно ясно. Вот этой дорогой он дойдет до Сель, потом свернет влево, возьмет немного вправо и попадет в Версаль, где перед обедом осмотрит парк.
Дорога шла в гору; Патиссо пыхтел, изнемогая под тяжестью мешка, гетры нестерпимо жали ноги, и он волочил в пыли огромные башмаки, тяжелые, как ядра. Вдруг он остановился с жестом отчаяния. Второпях он забыл дома подзорную трубу!
Но вот и лес. И тут, несмотря на страшную жару, на пот, струившийся по лицу, на тяжесть всей сбруи, на колотивший по спине мешок, Патиссо побежал, вернее, затрусил к зелени, слегка подскакивая, как старая, запаленная лошадь.
Он вошел в тень, в чудесную прохладу и умилился при виде множества цветочков — желтых, красных, голубых, лиловых, — крохотных, нежных, сидевших на длинных стебельках и цветущих вдоль канав. Насекомые всех цветов и форм — приземистые, вытянутые, необыкновенные по своему строению, страшные и микроскопические чудовища — взбирались по былинкам, гнувшимся под их тяжестью. И Патиссо искренне восхитился мирозданием. Но он совсем выбился из сил и присел на траву.
Тут он почувствовал голод. Но так и остолбенел, заглянув в мешок. Одна из бутылок разбилась, очевидно при его падении, и вино, задержанное клеенкой, превратило всю провизию в какой-то винный суп.
Все же он съел кусок жаркого, тщательно обтерев его, потом ломоть ветчины, несколько размокших, красных от вина хлебных корок и утолил жажду прокисшим бордо, розовая пена которого была так неприятна на вид.
Отдохнув час-другой, он еще раз взглянул на карту и отправился дальше.
Несколько времени спустя он оказался на перекрестке, которого никак не ожидал. Он взглянул на солнце, попытался ориентироваться, углубился в раздумье, разглядывая перекрещивающиеся черточки, которыми на бумаге изображались дороги, и вскоре пришел к убеждению, что окончательно сбился с пути.
Перед ним открывалась восхитительная аллея. Сквозь ее негустую листву просачивались капли солнечного света и, падая на землю, освещали скрытые в траве белые ромашки. Аллея была бесконечно длинная, пустая и тихая. Большой одинокий шмель, жужжа, летал по ней; порой он опускался на сгибавшийся под ним цветок и тотчас же улетал, чтобы сесть отдохнуть немного дальше. Его крупное тело — словно из коричневого бархата в желтых полосках — поддерживали прозрачные, несоразмерно маленькие крылышки. Патиссо следил за ним с глубоким интересом, как вдруг что-то закопошилось у него под ногами. Сначала он испугался и отпрыгнул в сторону, но потом осторожно нагнулся и увидел лягушку: она была величиной с орех и делала огромные прыжки.