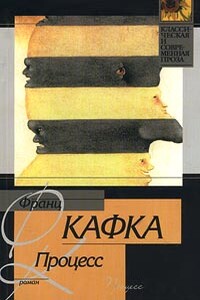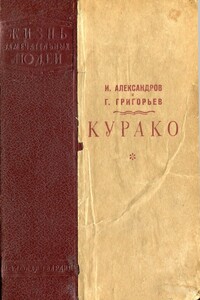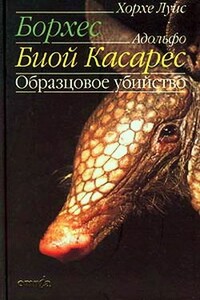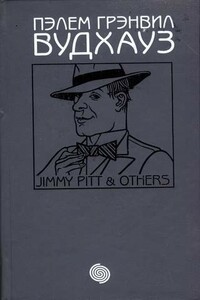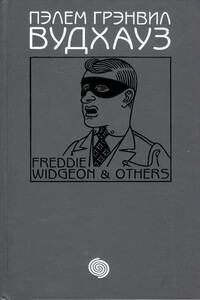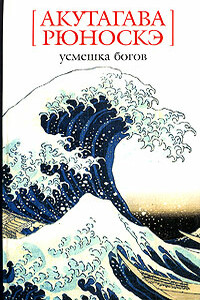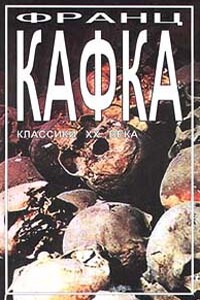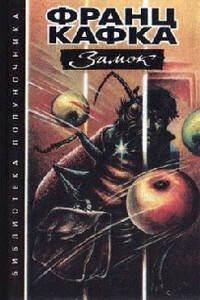ФРАНЦ КАФКА
ПЕРВАЯ ТОСКА
Перевела Анна Глазова
Акробат на трапеции -- а, как известно, это одно из самых сложных, труднодоступных для человека искусств, которым занимаются высоко над сценой варьете, под самым его куполом -- так устроил свою жизнь, что, сперва лишь из стремления к совершенству, а затем из превратившейся в тирана привычки, проводил и день и ночь на трапеции всё время, пока работал в одном и том же месте. Все его, впрочем, очень скромные нужды удовлетворяли сменявшие друг друга служители, ожидавшие внизу и отправлявшие всё, что требовалось, вверх и вниз в специально сконструированных для этого сосудах. Особенных сложностей для окружающих подобный способ существования не создавал; только во время других номеров программы он чуть-чуть мешал, оставаясь висеть наверху, чего никак нельзя было скрыть, и то и дело привлекал к себе взгляд из публики, несмотря на то, что в эти минуты он обычно оставался тих. Однако, дирекция прощала ему это, потому что он был исключительным, незаменимым артистом. К тому же, было, конечно, очевидно, что он жил так не из каприза, а лишь таким образом мог постоянно оставаться в форме, поддерживать в себе совершенство искусства.
Кроме того, условия там, наверху, были и в остальном неплохие, а когда в тёплое время года боковые окошки по полной дуге свода стояли открытыми, и солнце вместе со свежим воздухом с силой врывалось в сумеречное помещение, то становилось даже хорошо. Правда, его общение с людьми было очень ограниченным: только иногда коллега-гимнаст взбирался к нему по верёвочной лестнице, и тогда они оба сидели на трапеции, прислоняясь к канатам слева и справа, и болтали, или же строители чинили крышу и перебрасывались с ним парой слов через открытое окно, или пожарный проверял аварийное освещение на верхней галерее и выкрикивал что-то уважительное, но малопонятное в его адрес. В остальном же ничто не нарушало тишины; только иногда какой-нибудь заплутавший служащий, забредший в театр после полудня, бросал взгляд в высоту, почти убегавшую из поля зрения, где акробат на трапеции, не предполагавший, что за ним наблюдают, занимался своим искусством или отдыхал.
И так жизнь акробата могла бы протекать без помех, не будь неизбежных переездов с места на место, которые его крайне обременяли. Хотя импресарио заботился о том, чтобы упасти акробата от всякого ненужного продления страданий: для перемещения в города использовались гоночные автомобили, которые, по возможности, ночью или в самые ранние утренние часы проносились по безлюдным улицам на последней скорости, однако же, для тоски акробата на трапеции и это было слишком медленно; в железнодорожном вагоне заказывалось целое купе, время в пути в котором акробат проводил, лёжа в багажной сетке -пусть жалкое, но всё же подобие его обычного способа существования; в следующем месте гастролей трапецию в театре укрепляли задолго до прибытия акробата, а все двери, ведущие в помещение театра, стояли нараспашку, и все подходы к нему освобождались -- но всё равно, самыми прекрасными моментами в жизни импресарио были те мгновения, когда акробат ставил ногу на ступеньку верёвочной лестницы и в ту же секунду, наконец, вновь повисал на своей трапеции.
Несмотря на то, что импресарио удалось уже множество переездов, каждый новый был для него мучителен, потому что переезды, не принимая во внимание других вещей, разрушали нервы акробата на трапеции.
И вот так ехали они однажды, акробат на трапеции лежал в багажной сетке и подрёмывал, а импресарио читал книгу, расположившись в уголке у окна, и вдруг акробат на трапеции тихо обратился к импресарио. Тот сию же минуту оказался в его распоряжении. Акробат сказал, прикусывая губы, что теперь он должен иметь для своих упражнений не одну, как ранее, а две трапеции, одну напротив другой. Импресарио тотчас согласился. Акробат, будто желая подчеркнуть, что согласие импресарио не имеет значения, как не имел бы значения и его отказ, добавил, что теперь никогда и ни при каких обстоятельствах не согласится упражняться на одной трапеции. При мысли, что это когда-нибудь может произойти, его, казалось, начинала бить дрожь. Импресарио, робко приглядываясь, снова изъявил своё полное согласие: две трапеции лучше, чем одна, и это нововведение выгодно и в других отношениях, оно сделает представление более разнообразным. И тут акробат вдруг заплакал. Глубоко взволнованный, импресарио вскочил с места и спросил, что произошло, и, не получив ответа, встал на скамью, приласкал его, прижал его лицо к своему собственному, которое теперь тоже облили слёзы акробата. И только после долгих расспросов и уговоров акробат на трапеции произнёс, всхлипывая: "Одна-единственная палка в руках -- как же мне жить!" Теперь импресарио стало немного проще утешать акробата; он пообещал с ближайшей станции отправить телеграмму по поводу второй трапеции на место гастролей; он укорял себя в том, что из-за него акробат на трапеции вынужден был так долго работать на одной трапеции, и благодарил его, и хвалил за то, что он, наконец, указал ему на эту ошибку. Так импресарио удалось понемногу успокоить акробата, и он смог вернуться назад, в свой уголок. Однако, сам он не был спокоен, в большой тревоге наблюдал он поверх книжки за акробатом. Однажды начавшие мучить его мысли -- возможно ли, что они когда-либо совсем оставят его? Или станут лишь нарастать? А вдруг они опасны для жизни? И, действительно, импресарио как будто разглядел, как посреди, казалось, спокойного сна, пришедшего на смену слезам, первые морщины начали проступать на гладком детском лбу акробата на трапеции.