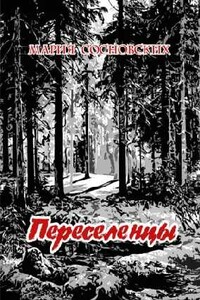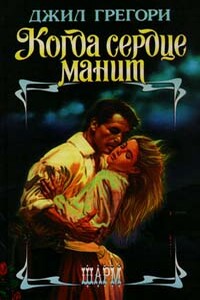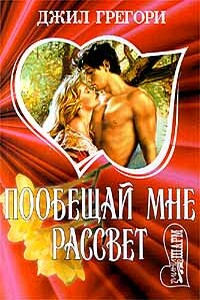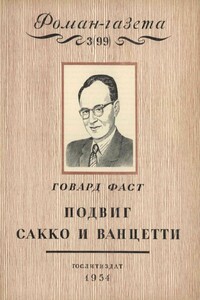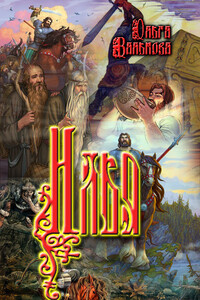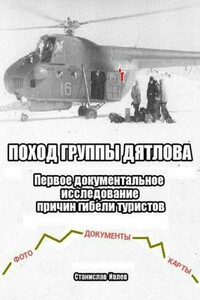От Новгородчины до Зауралья
Лето 1724 года. Жара и сушь. Монотонно скрипят телеги, людской говор временами заглушается конским ржанием. Иногда обоз останавливается у какой-нибудь речки или ручья. Люди поят лошадей, утоляют жажду сами, смывают с лиц дорожную пыль. Порой они распрягают и стреноживают лошадей, пуская их пастись на молодой отаве, разжигают костры и готовят скудную походную пищу. Дети, обрадованные остановкой, бегают наперегонки или рвут цветы.
…Вот уже третью неделю движется обоз: крестьяне с Новгородчины держат путь через Зауралье в Тобольскую губернию. Люди измучены тяжелой и дальней дорогой, их обветренные лица до черноты загорели под июньским солнцем, на впалых щеках лихорадочно блестят глаза…
Пока шел обоз, каждый день менялись картины окружающей природы: поля, перелески, большие и малые реки. Большие переплывали на паромах, через малые проезжали вброд или по деревянным мосткам. Путники с удивлением смотрели на новые места: многие, особенно женщины, раньше не бывали дальше своего уездного города в Новгородской губернии.
Когда останавливались на ночлег, мужики подолгу беседовали у костра.
Кое-кто из переселенцев раньше краем уха слышал про дремучие зауральские леса, где будто бы живут самоеды, которые ходят в звериных шкурах и едят сырое мясо. Однако когда переселенцам давали подорожную в деревню Прядеину Камышловского уезда Белослудской волости, то говорили: там, куда они едут, издавна жили и сейчас живут ссыльные, которые на новом месте приспособились и на жизнь не жалуются. Край, правда, еще малолюдный, но ведь не зря сам император Петр Первый изволил бывать в тех краях: и на Каменном поясе, и дальше по реке Оби – в Сибири. Государь сам видел несметные богатства тех мест, изобилие пушного зверя и рыбы. А что зимы там суровые, так и в Новгородской губернии крепкие морозы – не диво.
Как-то после Успенья, перед концом полевых работ, староста созвал всех на сход и объявил волю государя: переселяться в Тобольскую губернию. По царскому указу переселенцам на новом месте помогут обзавестись семенами, скотиной, а подать не будут брать в течение трех лет.
«А у нас здесь-то четвертый год, как недород, земли дальние да плохие, удобрять нечем, а добрые земли – у барина. Сам-то барин в Питере живет, а тут поставил бурмистра. Чисто зверь, душу вынет, как вовремя оброк не заплатишь. А до Сибири вряд ли скоро помещики доберутся…», – прикидывали будущие переселенцы.
Так же думал и тридцатилетний Василий Елпанов. Братьев Елпановых было четверо, и все крестьянствовали, не имея никаких отхожих промыслов. С годами жить в отцовском доме стало тесно, особенно когда женился Гермоген и взял непокладистую, со вздорным характером жену из зажиточной семьи.
У самого Василия жена тоже была не из бедных, родители дали за Пелагеей доброе приданое: стельную корову и мерина-трехлетка, по паре гусей и куриц – не у всякой было такое приданое. Через год родилась дочь Настасья, потом сын Петр.
Когда родила двоих детей и жена Гермогена, старшие Елпановы решили: Василию пришла пора отделяться и жить своим домом. Но денег на постройку нового жилища не было, и, наверно, так и остался бы Василий Елпанов с семьей в деревне до конца дней своих, если бы не государев указ. Крепко засела в голову Василия мысль попытать счастья в других краях, да и не одному ему засела: надумал переселяться и кум Василия, двоюродный брат Пелагеи Афанасий. Стали собираться в дальнюю дорогу. За сборами незаметно прошли осень и зима.
Тронуться в далекий путь решили накануне дня Ивана Купалы. В воскресенье батюшка отслужил в церкви молебен за здравие всех отъезжающих односельчан. После молебна пошли на кладбище – попрощаться с могилками родных. В день отъезда с утра пришли на проводины родители Пелагеи и все ее родственники. Дед Данила, по какой-то стариковской хворости лежавший на голбце, слез, надел новые пестрядинные штаны, холщовую рубаху и обулся в валенки, с которыми не расставался даже летом из-за больных ног.
Дед Данила, отец братьев Иван, мать Евдокия, Гермоген с женой Анной и младшие братья, неженатые Николай и Евлампий, сели в последний раз за семейный стол – все двенадцать человек.
Потом запрягли в телегу Коурка, а когда воз на телеге был уже увязан, по обычаю присели перед дорогой. Стали прощаться: пали родителям в ноги, отец взял с божницы икону, которой благословлял их к венцу, и отдал с собою в дорогу. Троекратно расцеловались с родственниками, посадили детей в телегу и тронулись со двора. Родственники, остающиеся дома, и односельчане вышли их провожать. Провожавшие дошли до полевых ворот, попрощались и разошлись по домам.
Целых двадцать семей тронулись в неведомые края, на восход солнца. Раньше до родной деревни слухов из дальних мест не доходило, и они, конечно, не знали, что уже давно смекалистый и оборотистый тульский кузнец Никита Демидов переселился на Урал, получил разрешение императора Петра Первого строить там заводы и закладывать рудники.
И вот он, Урал! Горные кряжи и увалы сплошь поросли остроконечными елями вперемешку с пихтами, лиственницами и кедрами, сосны в три обхвата стояли по обе стороны дороги. Обоз остановился – пораженные переселенцы не могли оторвать глаз от первозданной красоты. В Новгородской губернии таких лесов никто и не видывал.