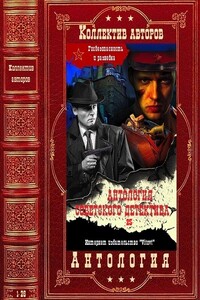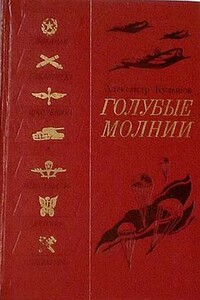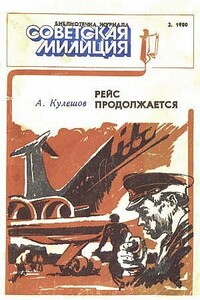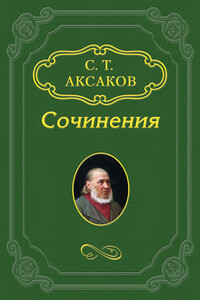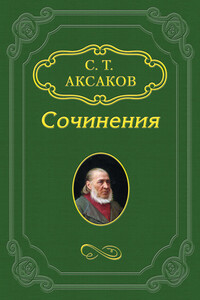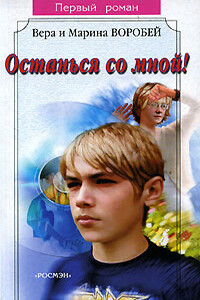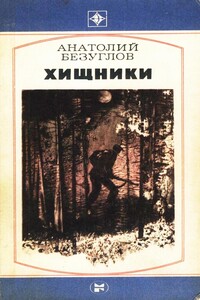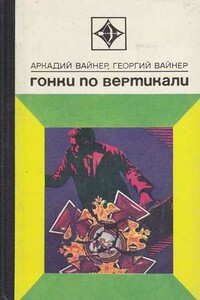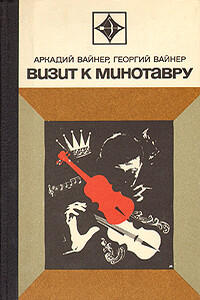Я прихожу в себя. Выплываю из белого тумана. Какие-то неясные тени едва проступают сквозь него. Они то гуще, то бледней. Туман становится плотней, строже формами. Теперь ясно, что это белые стены, белый потолок, белая с матовым стеклом дверь, молочным стеклом.
Туман снова стирает геометрические формы, надвигается, опутывает своими белоснежными чистыми клубами. И тогда четко и уверенно возникает прямо передо мной собачья морда.
Это Борец, умнейшая и красивейшая на свете овчарка. Уши торчком, язык розовеет, дыхание прерывистое, а в глазах, мудрых собачьих глазах, такая печаль… Они прощаются со мной, я понимаю.
Но как я это вижу? Мои-то глаза закрыты. И весь тот белый туман, и печальная морда Борца, и на миг возникшие стены — откуда все это? Ведь я лежу с закрытыми глазами. И кругом тишина.
Где я? И зачем? На мгновенье какая-то мысль, словно бритвой, обжигает мозг — операция! Ну да, через час (или два, три, четыре?..) операция. Но мысль исчезает так же мгновенно, как возникла. Я снова погружаюсь в невидимый расслабляющий белый туман. Далеко-далеко слышен гул тишины. Вновь набегают, мелькают, кувыркаются неясные тени.
И наползает прошлое. Давнее. Почти забытое, а сейчас пронзительно реальное. То, что было год, десять лет, двадцать лет назад. А может быть, двести…
…Я иду с отцом. Иду гордый. Ревниво слежу, смотрят ли прохожие на его погоны. Он только что получил вторую звезду — подполковничью, мне двенадцать лет, но я хорошо разбираюсь в военной иерархии. Ведь и я буду военным, и обязательно пограничником, как отец, как дед…
Я иду с отцом и с Акбаром. Это наша молодая овчарка. Акбар — кличка не очень-то оригинальная, тогда была она в моде, но звучная. Овчарки красивые собаки, а Акбар самая красивая и самая умная. Это уже третья на моей памяти в нашей семье, и, удивительно, все они были самыми красивыми и самыми умными. Мы оставляли овчарок на заставах и в отрядах, а сколько застав и отрядов сменили за мою двенадцатилетнюю жизнь — не сосчитать. Я же менял детские сады и школы, учителей и товарищей, менялись города, поселки, заставы, были жаркие степи, снежные горы, хвойные леса.
Меня это не беспокоило. Мама и папа были рядом, а товарищей я находил быстро. И дел хватало — там охотились за ящерицами, а тут за ежами, где-то заводили голубей, а где-то черепаху. Играли в футбол, плавали, удили, бегали на коньках, на лошадях и то ездили. Чему только не научился я под разными небесами одной страны. Моей.
— Учись, учись, сынок, — говорил отец, — военному человеку нужно все уметь. А уж пограничнику сам бог велел.
Вот я и учился. Порой расшибая нос, царапая колени, наживая синяки и шишки. Научился многому, отучился от одного — плакать. Эдакий маленький вояка.
Иду с отцом и Акбаром. На нас смотрят. Больше на Акбара. Это было, когда отец работал в управлении и мы надолго осели в Москве. Жили у деда. Он уже тогда был в отставке. И, много поколесив по границам, отвоевав войну, вернулся в столицу. Он «коренной москвич». Дед любит так себя называть, хотя наверняка на Москву пришлась меньшая половина его жизни. Так можно сказать — меньшая половина? Ведь половины должны быть одинаковыми. Но это в математике, в жизни по-другому. Дед говорит, что первая половина жизни у человека огромная, а вторая малюсенькая.
— Сколько бы ни длилась? — спрашиваю.
— Сколько бы ни длилась, — отвечает, — просто бывает, что у человека только первая половина жизни и есть, а то и четверть. Когда война, например, — вздыхает. — Мне вот повезло — вторую доживаю, а сколько моих товарищей и первую не прожили…
У деда была большая квартира, а жил одиноко, бабушка еще до моего рождения умерла. Так что нам всем хватило места, у меня — своя комната.
— Будущему генералу, — говорил дед, — нужен оперативный простор. Мы потеснимся, а ему — отдельную.
Тесниться не приходилось, говорю же — здоровенная квартира.
Мы идем с отцом и Акбаром по Кропоткинской улице. Здесь, в одном из переулков, в высоком сером доме мы жили. И по воскресеньям со мной гулял отец. Когда бывал свободен. Но это случалось редко. Зато тогда мы уж так загуливались, что мама была готова нас убить. Так она говорила, когда мы возвращались, — у нее что-то пережаривалось, перегревалось, переохлаждалось… Но мы набрасывались на еду, как «троглодиты» (это уже выражение отца), и мгновенно все съедали (Акбар у своей мисочки и то за нами не поспевал). Дед хвалил:
— Правильно, солдату некогда за столом рассиживаться.
С отцом мы гуляли, как говорил дед, без ориентира. Просто ходили по улицам, иногда задерживались в сквериках, чтобы дать порезвиться Акбару. Тогда еще повсюду в городе не висели дощечки: «Выгул собак запрещен. Штраф».