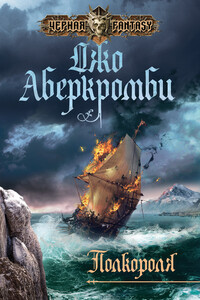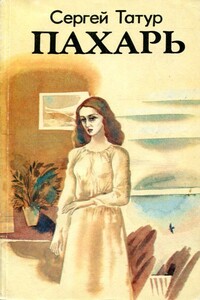Щаповаловский сход волнуется… Разгоряченные крики, наполняющие душную сборную избу, все растут и сливаются в упорный гул. Даже бородатые старики, всегда молчавшие, теперь жмутся плотной стеной к столу, протискиваются вперед плечами и локтями и с надсадой, уходя всем своим нутром в каждое слово, кричат:
— Незачем выделять!.. На што ему земля?.. Все равно — пахать сам не станет, а Игошину продаст!..
— Это верно!.. Как пить дать — продаст…
— У Игошина брюхо — во-о… Не накормишь!..
— Глот-от!.. Всю деревню бы проглотил, кабы силу имел…
— То-то и оно, што силов настоящих нет…
— Не желаем!.. Вот и весь сказ!..
Волостной писарь Евлампий Васильевич, ставленник земского начальника из канцеляристов, широкоплечий и широколобый, с большими желваками на висках, выбивается из сил, чтобы настоять на своем. В глубине души он сочувствует мужикам и не хотел бы с ними ссориться, но у него есть секретное предписание от земского начальника, обязывающее его содействовать всем выходцам из общины. И в затруднении писарь не знает, что делать… От напряжения на лбу его набухли толстые жилы. Виски взмокли, и волосы прилипли скобками к красным, тупо срезанным ушам. Навалившись тяжело, по-мужицки, на обшарпанный стол, он машет по воздуху сложенной в четвертушку бумагой — заявлением крестьянина Григория Таратыгина о выделе из общины:
— Да чудаки же вы!.. Да ведь закон же!.. Да ведь; если вы не дадите приговора, то имеет ли он, или нет, полное резонное основание земскому жаловаться?.. Так или нет?..
Мужики не сдаются… Живая стена движущихся голов колышется сильней. На писаря смотрят, как на врага, пришедшего из чужого стана, никто не высказывает явно своего недоверия к нему, но чувствуется, как это недоверие горячо бурлит под заплатанными армяками и домоткаными холщовыми рубахами.
— Нечего нам такать!.. Не желаем и баста…
— Ты гумагой не тычь… А ты вот рассуди сам, еловая голова, правильно ли — которому чужому человеку да лучший клин отрезать?..
— Па-а-мещики, притка вас задави!
Писарь оглядывает беспомощно то бушующую толпу, то помощников — двух подростков, сидящих в углу и приучающихся к делу, то старшину, степенного мужика с начищенной медной бляхой на труди.
— То есть как чужому?.. Шаповаловский он или нет?.. И надел ему полагается иль нет?.. Ведь ваш же он общественник…
Писарю не дают договорить.
— Какой он общественник?.. Трясучка его к нам из городу натрясла…
— Сколько годов как хозяйство их семья порешивши!..
Писарь бросает четвертушку на стол, достает из кармана пиджака пестрый каемчатый платок, вытирает потный лоб и безнадежно машет рукой. Он садится на скамью и отдувается долго и с трудом… Потом, отдышавшись, он дергает за полу кафтана старшину…
Старшина неохотно, тяготясь своей обязанностью, встает ему на смену… Он говорит сбивчиво и нескладно, медленно подыскивает каждое слово, мысли лениво ворочаются в его голове, — и от усилий, вследствие непривычки говорить, над его тупым переносьем сходятся две глубокие и толстые складки…
— По-пустому вы, старики, спорите!.. Раз Евлампь Василич объясняет вам — нельзя; ну, значит, и нельзя!.. Евлампь Василичу все законы известны…
Мужик Горькушин, многосемейный и не разделившийся с детьми, продирается из задних рядов вперед и останавливает на старшине слезящиеся глазки с воспаленными, как будто вывороченными докрасна веками… Лицо у Горькушина болезненное, и говорит он, точно жалуется на свою судьбу:
— Так ведь рассуди сам, Миколаич!.. Нешто так гоже?.. Одному клин да другому клин, пожалуй, раструси ее по клиньям всю землю!.. А нам кто чего даст?..
Виновник споров, Григорий Таратыгин, по кличке Тартыга, сидит в углу сборной избы рядом с богачом-краснорядцем Игошиным. Оба знают, что право и сила на их стороне, и потому молчат.
Таратыгин одет по-городскому. Вид у него беспечный, крикливо-яркий среди серого, деревенского. И от этого все настораживаются вокруг него досадливо и враждебно. С неприязнью оглядывая его сухое, изношенное в городе до желтизны лицо, закрученные и прокуренные усы, отбегающие неопрятно от губ к щекам, его клетчатый пиджак и даже старые ботинки, заплатанные и стоптанные, но сшитые по-магазинному, на фальшивом ранту и с вытянутыми фасонистыми носками.
Горькушин выбрасывает к нему мозолистые нескладные руки и пробует усовестить его:
— На што тебе, Григорий, земля?.. Ведь продашь?.. Сам не будешь робить?..
Тартыга встряхивается. Все, что происходит кругом, ново для него, занятно… И вражда, которую он встречает во всех, не тревожит его ничуть, а только забавляет.
Наглые и смеющиеся глазки Тартыги самодовольно щурятся, и долго переливается в них дерзкий дразнящий огонек…
Зная, что все внимательно следят за каждым его движением, он старается говорить как можно молодцеватей и небрежней:
— А и продам!.. Вот на месте подохнуть, — право слово, продам…
Горькушин с сокрушением качает головой…
— А-их, парень ты, парень!..
Тартыга откидывается одним плечом к шершавым бревнам стенки и небрежно, сквозь зубы, роняет:
— То и хорошо, что парень. Не успел мохом обрасти, как вы, бородачи…
Горькушин укоризненно прощупывает Тартыгу глазами… Смотрит пристально и долго, словно хочет опуститься глубоко в самую душу Григория и уяснить себе все непонятное и чужое, с чем пришел из города этот странный и дерзкий человек.