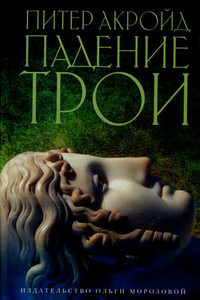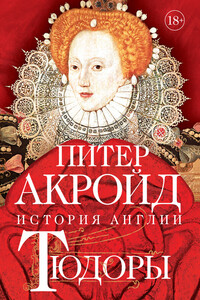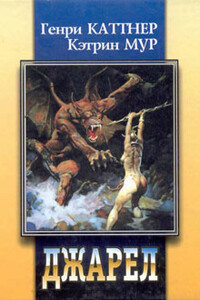Он тяжело опустился на колени, взял ее руку и поднес к губам.
— Целую руку будущей миссис Оберманн. — Он говорил по-английски. Ни она, ни ее родители не знали немецкого, а он не любил простонародного греческого. Находил его вульгарным.
София Хрисантис посмотрела вниз, на его лысину, и заметила небольшой шрам.
— Ты был ранен, Генрих?
— Обломком статуи Зевса. На острове Итака. Я нашел там дворец Одиссея, этого странника. Я обнаружил комнату, где его жена, Пенелопа, занималась своим бесконечным ткачеством. Она хранила ему верность. Ты будешь моей Пенелопой, София.
— Надеюсь, ты не уедешь так далеко.
— Ты всегда будешь со мной. — Он с некоторым трудом встал и поклонился ее родителям, стоявшим бок о бок у окна. — Я буду молиться за тебя каждый день. Проживи я хоть тысячу лет, я не забуду тебя. — За окном по пыльным улицам сновали конные экипажи; краем глаза он увидел трех женщин, державших зонты, чтобы защититься от яркого солнца ранней афинской весны. Они шли по булыжной мостовой и болтали. Все три были в бледно-зеленых платьях и белых шляпках с белой вуалью. Сразу было понятно, что они сестры. — Сегодня день, предвещающий добро. Ваша дочь будет моим товарищем в трудах, Греция высоко оценит ее, — обратился Оберманн к родителям невесты.
— У нее нет иного желания, чем стать вашей женой, герр Оберманн. — Мадам Хрисантис чуть заметно кивнула, словно в знак официального подтверждения. — Мы научили ее тому, что жена — тень своего мужа.
— Немецкие женщины не поверили бы вам.
— Поэтому вы и женитесь не на немке.
Оберманн засмеялся. Он уже понял, что мадам замечательная женщина, и надеялся, что дочь унаследовала ее характер.
— Моя жена будет мне товарищем в поисках забытого прошлого ее родной страны. Она окажется в стенах Трои!
— У Софии страсть к учению, это правда. — Полковник Хрисантис счел необходимым вмешаться в разговор, ведь речь шла о будущем его единственной дочери. — С тех пор, как мы получили ваше первое письмо, она читает мне Гомера.
— Она рисует карты со схемами сражений, — добавила мадам Хрисантис
— Очень хорошо. Прекрасно. — Оберманн снова взял Софию за руку. — Она вторая Афина, столь же образована, сколь прекрасна.
— Я не хочу быть богиней, Генрих.
— Жду не дождусь момента, когда привезу тебя на равнину Трои. Я покажу тебе место, где сражались Гектор и Ахилл. Дворец Приама. И стены, с которых троянские женщины смотрели, как их воины бьются с захватчиками — Агамемноном и его воинами. Это произведет на тебя впечатление, София.
— Но ведь это было так давно, Генрих…
— Для меня нет. Это вне времени. Вечно.
— Не знаю, сумею ли я заглянуть так далеко.
— Моя жена сумеет увидеть все.
Несколькими днями ранее Оберманн повел Софию во двор дома, где уже царила вечерняя прохлада, и сел рядом с ней на мраморную скамью.
— Ты должна стать моей, София. Раз я так ре шил, то не передумаю. Я непоколебим. Увидев твою фотографию, я сразу понял, что ты принадлежишь мне.
— Значит, ты выбрал меня без причины?
— Мы совершаем поступки, потому что совершаем. Объяснения не нужны. Ваши драматурги знали это. Гомер знал.
— Я думала, ты полюбил меня, потому что я женщина, которая читает Гомера.
— Частично. Вот мы и соединились. Но это еще и судьба, София. Такая же тяжкая и отчаянная, как жизнь.
Церемония состоялась в небольшой церкви Святого Георгия, позади Одос Эрму на маленькой площади. Свадебное угощение готовили слуги Хрисантисов. Они непрерывно обсуждали и сравнивали достоинства невесты и жениха. Девушки считали, что он слишком стар для Софии. Ей было двадцать пять, а герру Оберманну, должно быть, пятьдесят, нет, больше пятидесяти. Скоро он располнеет, станет носить очки с толстыми стеклами; к тому же он маленького роста, с большой круглой головой, похожей на пушечное ядро.
— Он слишком громко говорит, — заметила Мария Кармениу. — Его голос гудит по всему дому.
— На немецкий лад, — объяснил Никола Заннис. — Они сильные. Нетерпеливые.
В свою очередь высказались дворецкий и камердинер. София Хрисантис молода — некоторые даже называют ее красавицей, — но характер у нее отвратительный, как у ее матушки. Она сладка с ним, как мед Гиблы; но мужчины пророчили, что после брачной ночи это долго не продлится.
В чем все слуги были согласны, так это в том, что герр Оберманн, должно быть, заплатил за молодую жену большой выкуп. И были ему за это благодарны. В последние месяцы хозяева настолько сократили расходы, что их стало почти невозможно обманывать.
Брачный пир, разумеется, был обильным, со всеми полагающимися в таких случаях сладостями и деликатесами.
Оберманн выпил много вина и даже просил подать баварского пива, но пива не было.
Прежде чем кончилось застолье, он, вопреки всем правилам, поднялся и произнес речь. Он начал с того, что восславил красоту греческих женщин на примере мадам Хрисантис, сидящей во главе самого восхитительного стола со времен, когда Афродита пировала в окружении зефиров и нереид. Ее супруг, великий человек, гордость Национальной патриотической армии, полковник Хрисантис, который доблестно сражался с азиатами, заслуживает особых похвал; но самой высокой хвалы он заслуживает за то, что его мощные чресла породили прекраснейшую дочь.