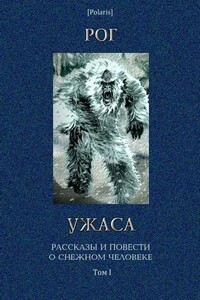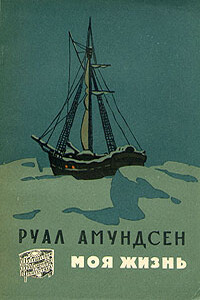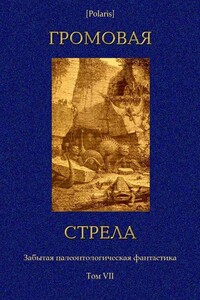Предисловие к английскому изданию
Превосходный переводческий труд м-ра Клодели Бреретона ничуть не пострадает, если мы заметим, какие тонкие изменения претерпевает в процессе перевода сочинение, подобное книге г. Тарда. У каждого языка в мире, я полагаю, есть свои особенности, свои отличительные свойства. Французскому, в отличие от английского, присуща большая интеллектуальная живость, веселая и ироническая нота, ученая игривость, проявляемые и автором этой книги. Английский не так гибок, это язык более строгий и солидный — что касается не только звучания и формы наших фраз, но и форм самой мысли. Она то сворачивается и сгущается, то разрастается и затемняется; любая шутка оборачивается трудностями и подвергает немалой опасности репутацию автора как человека здравомыслящего. И в самом деле, невозможно представить, что профессор Гиддингс и м-р Бенджамин Кидд, д-р Беатти-Крозье и м-р Уордсворт Донисторп вдруг засверкают, как это сочинение, такими жизнерадостными искрами. Подобно старому мореходу м-ра Гилберта, они никогда «не резвятся и не играют», а если бы и сумели преодолеть велеречивые тонкости нашей манеры изъясняться и вдумчивую серьезность нашего стиля мышления, осталась бы еще английская публика, та самая публика, что склонна обижаться на своих юмористов по причине отсутствия прямоты, за развлечением обращается к известным и признанным специалистам в этой области, пишущим на законные темы юмористического толка, и требует от своих профессоров, наряду с определенной величавой недоступностью мысли и языка, подобающего воздержания от предательства, каким видятся ирония и сатира. Вообразите «Историю будущего», написанную м-ром Гербертом Спенсером! Америка и север Англии отказали бы ему во всяком уважении… Но г. Тард, будучи не только членом Института и профессором Коллеж де Франс, но и французом, смог придать полету воображения доступное, литературно изящное и остроумное выражение, не рискуя при том изничтожить самого себя — и создать нечто, что в английском обличии может показаться весьма необычным. И все-таки английский читатель, который окажется в состоянии преодолеть свое естественное предубеждение против такого рода сочетания ума и веселости, найдет в фантастических россыпях г. Тарда немало предметов для размышления, а пустив в ход обычную серьезность, обнаружит и мораль достаточно — следует признать — разностороннего сорта.
Примечательно, что многие, обращаясь к такой важнейшей теме, как материальное будущее человечества, берут на вооружение метод сугубо технического, псевдо-научного обсуждения (что едва ли можно назвать «методом») либо выказывают дух легкомыслия. Я не знаю ни одной посвященной этому вопросу книги, которая соединяла бы приемлемую доступность изложения с простым доверием к читателю. Попробуем объяснить, отчего так происходит. Тема настолько глубока и громадна, что утрачивается всякая совместимость с делами и условиями индивидуального человеческого существования, каковым отданы наши повседневные мысли. Да, мы испытываем любопытство и в то же время чувствуем, что эта тема вне нас, превыше нас. Обращение к ней отдает самонадеянностью, головоломным напряжением и экстравагантной нелепостью. Это все равно, что пытаться лопатой срыть гору, и инстинкт заставляет нас искать оправдания в глазах ближних посредством блеска остроумия. В точности тот же инстинкт порождает защитное «дурачество», в котором не отказывают себе школьники, когда берут на себя какое-либо безнадежное обязательство или терпят решительное поражение в игре.
Сходный инстинкт сказывается в шутливом «parley vous Francey» англичанина из низших классов, который втайне мечтает говорить на французском, но на практике считает такую идею смехотворной и абсурдной. Облекая наши социологические предположения в конкретную форму, мы срываем с них все одежды убогих претензий, оставляя их нагими и дрожащими от явной несостоятельности. Дело не в том, что вопрос незначителен; напротив, именно потому, что он чрезвычайно важен, появляются все эти остроты о Будущем, вся эта фантастическая и «ироническая» беллетристика. Здесь мы имеем лишь средство для выражения смутных, неоформленных, новых идей, над которыми мы все задумываемся. Будущее является в нашей литературе как своеобразная комедия и арлекинада в сравнении с трагической драмой Настоящего, и герои и героини последнего предстают в новых и смешных видах; не сказать, что в этом отражается наше действительное понимание соотношения вещей — но таков, пожалуй, единственный доступный нам в настоящее время способ рассуждения о материальной Судьбе человеческой расы.
Г-н Тард, в предлагаемой книге, прибегает к уклончивой иронии; иногда он подшучивает над явлениями современности, помещая их в незнакомое окружение, иногда развивает собственные фантазии, главным образом ради них самих, но с хорошо переданным литературным эквивалентом извиняющейся улыбки смущенного собеседника. Отметим общую ясность, французскую резонность и упорядоченность его идей. Он мыслит (как всегда, кажется, поступают французы) в категориях человечества, одновременно более просвещенного и более ограниченного, нежели то, что видится нам, англичанам. В его светских и радостных людях XXV века, этих жертвах солнечной катастрофы, нет никаких изъянов, никакого тумана и тайн, никаких несоответствий, никакой жестокости и лицемерия — как и темных проблесков божественности. Он создали всемирное государство и искоренили все уродливое и слабое. Джентльмены этой Утопии — с ухоженными ногтями и бородами — изящно вьются вокруг невообразимо элегантных и блистающих красотой дам, чье очарование только оттеняется пенсне, которое носят все. Они говорят не на эсперанто, но на греческом — что немного не соответствует указанной картине; и поскольку в мире Утопии более или менее богатые и хорошенькие женщины и привлекательные мужчины попадаются на каждом шагу, словно ягоды в лесу, и так же доступны, «человеческая страсть целиком устремилась на то поле, которое одно осталось открытым» — в политику. Сей поток отхлынул благодаря одному философствующему финансисту, который, как в подробностях дознается читатель, самым милым образом увековечил свои труды, воздвигнув алюминиевую статую Луи Филиппа в качестве препятствия на пути нового наводнения — и что же осталось? Непревзойденное цветение поэзии и искусства!





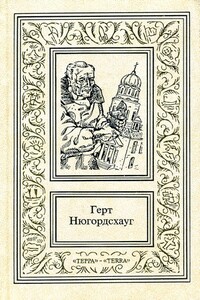
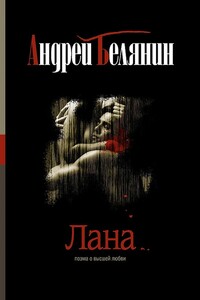

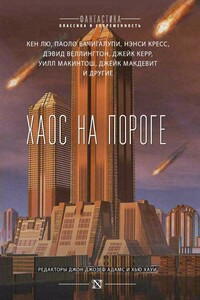
![Ордер на молодость [с иллюстрациями]](/storage/book-covers/1b/1bcfc6fc04219ed8786919c4325fd8f672904f35.jpg)