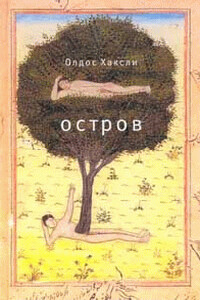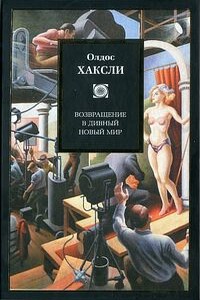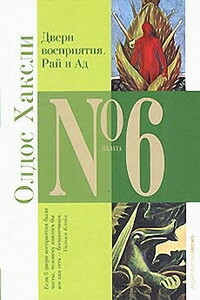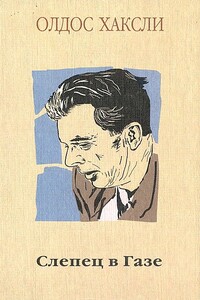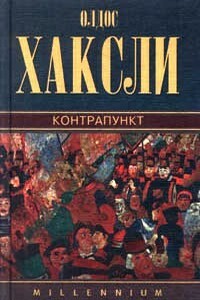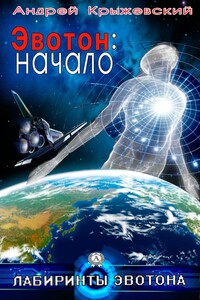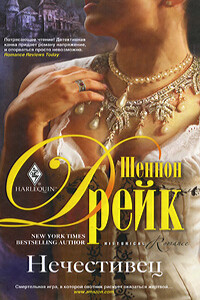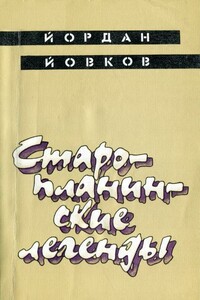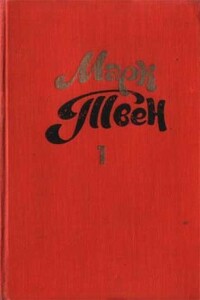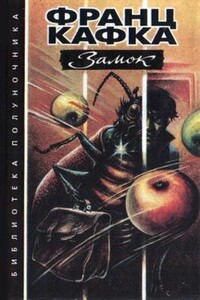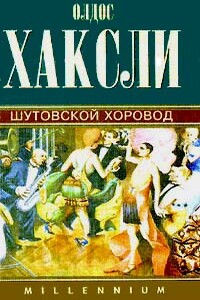— Внимание, — раздался голос, тонкий и гнусавый, будто гобой заговорил. — Внимание, — прозвучало вновь с той же монотонностью.
Уилл Фарнеби, простертый, как мертвец, в сухой листве, со спутанными волосами и грязным лицом в кровоподтеках, в разодранной, испачканной одежде, неожиданно вздрогнул и проснулся. Молли звала его. Пора вставать, одеваться. Необходимо успеть на службу.
— Спасибо, дорогая, — сказал он и сел. Острая боль пронзила правое колено; болели спина, руки, голова.
— Внимание, — настойчиво требовал голос, не меняя тона. Опершись на локоть, Уилл осмотрелся и с удивлением увидел не серые обои и желтые занавески своей лондонской спальни, но лесную поляну, длинные тени деревьев и косые лучи утреннего солнца.
«Внимание»? Почему она говорит: «Внимание»?
— Внимание. Внимание. — Голос не умолкал, чужой и бесстрастный.
— Молли? — переспросил Уилл. — Молли?
Имя это словно бы приоткрыло оконце в его памяти. Внезапно вернулось чувство вины, засосало под ложечкой, и он ощутил запах формальдегида, увидел проворную сиделку, торопящуюся впереди него по коридору с зелеными стенами, и услышал четкое шуршание ее накрахмаленного халата. «Пятьдесят пятая», — сказала сиделка, остановилась и толкнула белую дверь. Уилл вошел: там, на высокой белой кровати, была Молли. Бинты закрывали ей пол-лица; открытый рот зиял, будто яма.
— Молли, — позвал он надтреснутым голосом, — Молли… — Теперь он готов был плакать, заклинать. — Моя дорогая!..
Она не откликнулась; только хриплое дыхание вырвалось из зияющего рта, — частое, неглубокое…
— Дорогая моя, дорогая…
Вдруг ее рука, в руке Уилла, ожила на миг и вновь замерла.
— Это я, — сказал он. — Я, Уилл…
Пальцы опять шевельнулись. Медленно — наверное, это стоило огромных усилий — они согнулись, сжали ему руку и снова безжизненно застыли.
— Внимание, — позвал странный голос. — Внимание.
Несчастный случай, поторопился убедить себя Уилл.
Мокрая дорога, машину занесло на белую полосу. Подобные происшествия не редкость. Не сам ли он сообщал в газетах о десятках аварий. «Мать и трое детей погибли при лобовом столкновении…» Но не в этом дело, нет. Было так: она спросила — правда ли, между ними все кончено, и он ответил — да. Менее чем через час после этого позорного ответа (Молли сразу же ушла, и как нарочно лил дождь) ее доставили, умирающую, в больницу.
Уилл не смотрел на Молли, когда она уходила. Не смел смотреть. Вновь увидеть это бледное, страдающее лицо было выше его сил. Молли поднялась со стула и медленно вышла из комнаты; вышла из его жизни. Отчего он не окликнул ее, не попросил прощения, не заверил, что по-прежнему любит? Но любил ли он ее когда-нибудь?
В сотый раз говорящий гобой призвал ко вниманию.
Да, любил ли он ее?
— До свидания, Уилл, — вспомнил он ее прощальные слова. Ведь это она сказала ему — тихо, из глубины сердца: — Я все еще люблю тебя, Уилл, несмотря ни на что.
Дверь квартиры закрылась за ней почти беззвучно. Сухой щелчок замка, и она ушла.
Уилл бросился к входной двери, распахнул ее и услышал удаляющиеся вниз по лестнице шаги. Слабый аромат духов таял в воздухе, будто призрак после первого крика петуха. Уилл закрыл дверь, вернулся в серо-желтую спальню и посмотрел в окно. Вскоре он увидел, как Молли прошла по тротуару и села в машину. Заскрежетал стартер — еще и еще раз, и наконец заработал мотор. Почему Уилл не открыл окно? «Молли! Молли! Остановись!» — казалось, он слышал свой голос, и все же окно оставалось закрытым. Машина тронулась и свернула за угол; улица опустела. Опоздал. Хвала Господу, опоздал! — повторил кто-то насмешливо и развязно. Да, слава Богу! И вновь с ощущением вины засосало под ложечкой. Он виноват, его гложет раскаяние — и все же, как это ни чудовищно, Уилл чувствовал радость. Некто подлый, похотливый, безжалостный, чужой и ненавистный — но разве это не он сам? — радуется, что теперь ничто не помешает исполнению его желаний. А желает он вот чего: вдыхать аромат других духов и ощущать тепло и упругость более юного тела.
— Внимание! — напомнил гобой. Да, внимание. К мускусной спальне Бэбз с землянично-розовым альковом и двумя окнами, выходящими на Чаринг Кросс Роуд, в которые всю ночь, с противоположной стороны улицы, светило мерцающее пламя огромной рекламы джина Портера. Джин озарялся царственным пурпуром — и на десять секунд альков превращался в Сакре-Кёр; дивные десять секунд лицо Бэбз пылало рядом с его лицом — огненное, как серафим, и словно преображенное пламенем любви. Затем наступала глубокая тьма. Один, два, три, четыре… Господи, если бы так длилось вечно! Но неизбежно на счет «десять» электронные часы открывали новый мир — мир смерти и Вселенского Ужаса, ибо освещение теперь было зеленым, и на десять секунд розовеющий альков превращался в могилу с тленом, да и тело Бэбз на ложе приобретало трупный оттенок — мертвец, гальванизированный приступом посмертной эпилепсии. Когда джин Портера рекламировался в зеленом цвете, трудно было забывать о том, что случилось. Оставалось только зажмурить глаза и как можно глубже нырять в другой мир — мир чувственности, погружаться неистово и увлеченно в странные безумства, от которых Молли — Молли («Внимание») в бинтах, Молли в склизкой могиле на Хайгетском кладбище (да, на Хайгетском кладбище — вот почему надо было закрывать глаза всякий раз, когда зеленоватый свет придавал трупный оттенок наготе Бэбз) — всегда была далека. Да и не только Молли. Мысленным взором он увидел и свою мать — бледную, как камея, с лицом, одухотворенным перенесенными муками, и руками, изуродованными артритом. А позади нее — стоящую за креслом-каталкой располневшую, дрожащую, как студень, сестрицу Мод, обуреваемую чувствами, которые так и не получили своего выхода в супружеской любви.