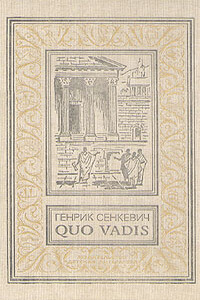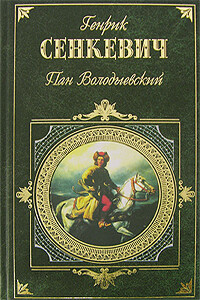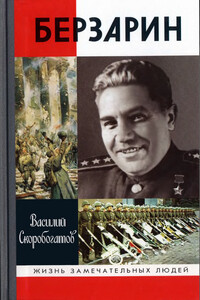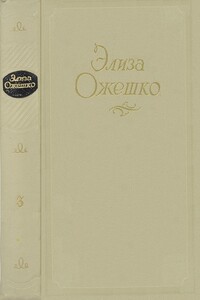Генрик Сенкевич
Органист из Пониклы
Снег был сухой, скрипучий и не очень глубокий, а у Кленя были длинные ноги, и он быстро шагал по дороге из Заграбья в Пониклу. Он прибавлял шагу еще потому, что видно было - мороз будет крепкий, а одет он был плохо: на нем был кургузый сюртук, поверх него совсем куцый полушубок, на ногах черные брюки и тонкие заплатанные сапоги. Кроме того, у него был гобой в руках, подбитая ветром шапка на голове, в желудке - две рюмочки араку, а в сердце радость, а в душе веские для этой радости причины. Только сегодня утром он подписал контракт с каноником Краевским на должность органиста в Поникле. Он играл лучше всех окрестных органистов, но до сего времени вынужден был, как цыган, таскаться из корчмы в корчму, со свадьбы на свадьбу, с ярмарки на ярмарку, с одного церковного праздника на другой, добывая себе кусок хлеба игрой на гобое или на органе. Теперь он, наконец, поселится в Поникле и заживет оседло, под собственной крышей. Дом, сад, сто пятьдесят рублей жалованья в год, кой-какие другие заработки, положение лица почти духовного звания, труд во славу божию - кому же все это не внушит уважения? Еще недавно каждый Мацек в Заграбье или в Поникле, который сидел на нескольких моргах, считал пана Кленя человеком пустым, - теперь люди будут перед ним шапку снимать. Органист - да еще в таком громадном приходе - это не последняя спица в колеснице!
Давно уже Клень мечтал об этой должности, но пока был жив старый Мельницкий нечего было и думать ее занять. Пальцы у старика не сгибались, и играл он плохо, но каноник ни за что не уволил бы его, потому что они прожили вместе двадцать лет. Но когда Лыска, лошадь каноника, так сильно лягнула старика, что он через три дня помер, Клень без колебаний попросил принять его на место Мельницкого, а каноник без колебаний принял Кленя, потому что лучшего органиста не сыскать было и в городе.
Трудно сказать, откуда взялась у Кленя такая "ловкость" на гобое, органе и других инструментах, на которых он играл. Он не научился этому от отца, потому что отец его, родом из Заграбья, в молодости служил в солдатах, но не был музыкантом; на старости лет он вил веревки из конопли и играл только на трубке, которая всегда торчала у него в усах.
А молодой Клень с детских лет только и прислушивался, не играют ли где-нибудь? Еще подростком он ходил в Пониклу "каликовать"* Мельницкому, а тот, видя в мальчике такую любовь к музыке, стал учить его на органе. Через три года Клень уже играл лучше Мельницкого. Потом в Заграбье пришли однажды какие-то музыканты, и он убежал с ними. С этой компанией он бродил много лет, играл неведомо где: на ярмарках, на свадьбах и по костелам. Только когда товарищи его разбрелись кто куда или перемерли, он возвратился в Заграбье, исхудалый и бедный, как церковная мышь. Жил он как птица небесная и все играл, то для людей, то для бога. Люди считали его "никчемным", но все же его знали во всей округе. В Заграбье и в Поникле о нем говорили: "Клень это Клень! Но как начнет играть, то и господу богу угодно, а у человека аж сердце замрет".
______________
* Раздувать мехи органа
Иные даже спрашивали его: "Да побойся ты бога, пан Клень! Что за лихо в тебе сидит?"
И действительно, сидело какое-то лихо в этом тощем теле на длинных ногах. Еще при жизни Мельницкого, заменяя его в дни двунадесятых и храмовых праздников, Клень иногда забывался у органа. Случалось это чаще всего посредине литургии, когда люди в костеле целиком ушли уже в молитву, когда дым кадильниц наполнял костел, когда все кругом пело, когда звон колоколов и колокольчиков, запах мирры, янтаря и благовонных трав, мерцание свечей и блеск дароносицы так подымали благочестие в душах молящихся, что, казалось, весь костел на крыльях уносится ввысь. Каноник то поднимал, то опускал дароносицу и в экстазе закрывал глаза. А Клень наверху тоже закрывал глаза, и ему казалось, что орган играет сам, что голоса оловянных труб вздымаются, как волны, текут, как реки, плещут, как водопады, струятся, как родники, звенят, как дождевые капли. Звуки органа наполняли весь костел. Они носились под сводами, и перед алтарем, и в клубах ладана, и в солнечном свете, они трепетали в душах людских, одни - как грозные и величественные громы, другие - как поющие человеческие голоса, третьи - сладостные, мелко рассыпающиеся, как бисер или соловьиные трели. И пан Клень сходил после службы с хоров, опьяненный, 9 блестящими, как после сна, глазами, - но он был человек простой, и он думал и говорил только, что очень устал. Каноник в ризнице дарил несколько монет его руке, несколько слов похвалы его слуху, а он проходил через толпу, стоящую перед костелом, и люди кланялись ему и восхищались им безмерно, несмотря на то, что он был беден и снимал угол в Заграбье. Но пан Клень ходил перед костелом не для того, чтобы услышать: "Эй, смотрите, вон Клень идет". Нет, он ходил здесь, чтобы увидеть ту, которая была ему всего милей в Заграбье, в Поникле и в целом свете, - чтобы увидеть панну Ольку, дочку кирпичника из Заграбья. Впилась она в его сердце, как клещ, и своими синими глазами, и ясным лицом своим, и вишневыми губами.