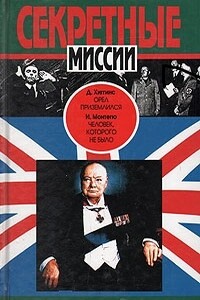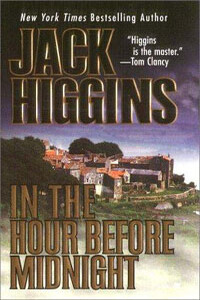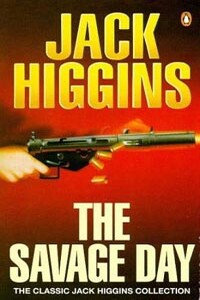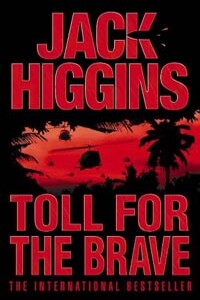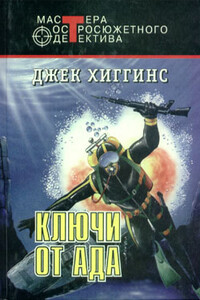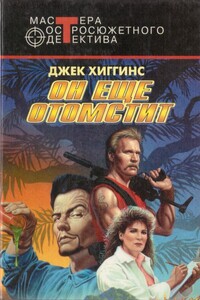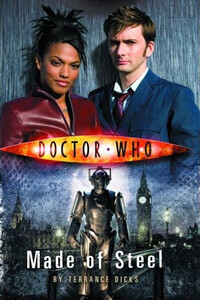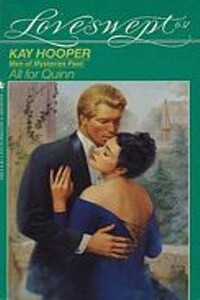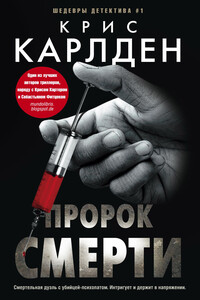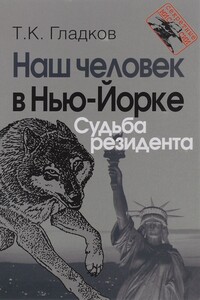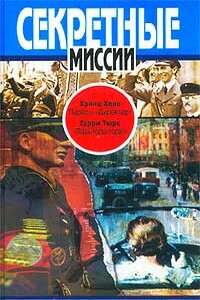Когда я пришел на кладбище, кто-то копал в его углу могилу. Я помню это совершенно отчетливо, потому что этот факт как бы очертил место действия почти всего, что затем произошло.
С берез на запад от церкви поднялось пять или шесть грачей, которые сердито перекликались, пока я пробирался между могильными плитами к разрытой могиле. Воротник моего плаща был поднят — дождь лил вовсю.
Тот, кто находился в яме, тихо разговаривал сам с собой. Слов его расслышать было невозможно. Я подошел к куче свежей земли, увернувшись от вылетевших комьев, и заглянул вниз.
— Мерзкое утро для такой работы, — сказал я.
Он поднял голову и оперся на лопату — глубокий старик в матерчатой кепке, в ветхом, покрытом грязью костюме и накинутым на плечи мешком. Щеки у него запали и были покрыты седой щетиной, глаза слезились и ничего не выражали.
Я начал снова.
— Дождь, — произнес я.
В глазах у него отразилась какая-то мысль. Он посмотрел на хмурое небо и почесал подбородок:
— Ухудшится, прежде чем улучшится, скажу я вам.
— Вам, должно быть, трудно в такую погоду, — продолжал я. На дне ямы плескалось по меньшей мере на шесть дюймов воды.
Он ткнул лопатой в дальний угол могилы, и тот обвалился, как будто лопнуло что-то прогнившее, и земля покатилась вниз.
— Могло бы быть и хуже. Они все время пихают столько народу в эту свалку костей, что люди не превращаются больше в землю. Новых кладут в месиво из старых.
Он рассмеялся, обнажив беззубые десны, затем нагнулся, покопался в земле под ногами и вытащил косточку пальца.
— Понятно?
Даже для профессионала-писателя, которому в жизни приходится сталкиваться с разными вещами, есть предел того, что можно вынести, и я решил, что мне пора идти дальше.
— Я правильно понял? Это католическая церковь?
— Здесь все римские католики, — сказал он. — Всегда были.
— Тогда вы, может, поможете мне? Я ищу могилу или, возможно, памятник в самой церкви. Гаскону, Чарлзу Гаскону. Морскому капитану.
— В жизни о таком не слыхал, — сказал он. — А я здесь могильщиком сорок один год. Когда его похоронили?
— Примерно в 1685 году.
Выражение лица его не изменилось. Он спокойно сказал:
— А, значит, это еще до меня. Отец Верекер — вот кто может что-то знать.
— Он в церкви?
— Там или дома. По ту сторону деревьев позади забора.
В этот момент по какой-то причине колония грачей на березах над нашими головами пришла в движение, десятки птиц закружились под дождем, наполняя воздух шумом. Старик посмотрел на них и швырнул косточку вверх. Затем он сказал очень странную вещь.
— Шумные дьяволы! — крикнул он. — Возвращайтесь в Ленинград.
Я было уже повернулся уйти, но, заинтересованный этими словами, остановился.
— Ленинград? — спросил я. — Почему вы так сказали?
— А они оттуда. И скворцы тоже. Их окольцевали в Ленинграде, а в октябре они появляются здесь. Им там слишком холодно зимой.
— Правда? — спросил я.
Могильщик очень оживился, вытащил из-за уха полсигареты и сунул в рот.
— Там зимой так холодно, что у медной обезьяны может все отмерзнуть. Во время войны под Ленинградом умерло много немцев. Их не убили или там еще что-нибудь. Они просто замерзли насмерть.
К этому моменту я был уже сильно заинтригован и спросил:
— А кто вам все это рассказал?
— О птицах? — На его лице появилось хитрое выражение. — Как же, Вернер рассказывал. Он все знал о птицах.
— А кто был этот Вернер?
— Вернер? — Могильщик несколько раз моргнул, на лице снова появилось тупое выражение, но истинное или нарочитое — сказать было невозможно. — Он был хороший парень, этот Вернер. Хороший парень. Им бы не следовало с ним этого делать.
Он нагнулся над лопатой и снова начал копать, полностью меня игнорируя. Я постоял немного, но было ясно, что больше он ничего не скажет, и поэтому с явной неохотой, ибо то, что я услышал, безусловно, обещало интересную историю, повернулся и стал пробираться среди могильных плит к главному входу в церковь.
На паперти я остановился. На стене церкви висела доска для объявлений из темного дерева, вверху которой потускневшими золотыми буквами было написано: «Церковь Святой Марии и Всех Святых, Стадли Констабл», а ниже указано время богослужения и исповеди. Внизу стояло: «Отец Филипп Верекер, иезуит».
Дверь была дубовая, очень старая, обшитая полосками железа, усеянными гвоздями. Бронзовая ручка — в виде головы льва с большим кольцом в пасти. Чтобы открыть дверь, кольцо надо было повернуть. Открывалась она со слабым, но зловещим скрипом.