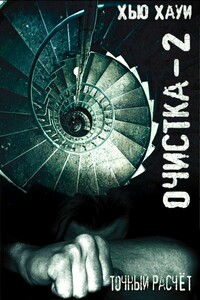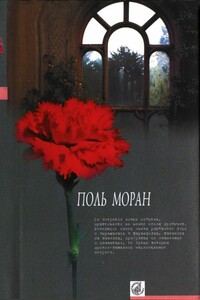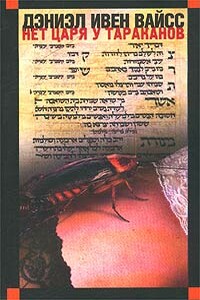Холстон всходил навстречу своей смерти. Наверху царила весёлая суматоха, оттуда доносились голоса играющей ребятни — так звонко кричат только счастливые дети. Холстон не торопился; он делал каждый шаг взвешенно и обдуманно, круг за кругом поднимаясь по винтовой лестнице. Стальные ступени звенели под старыми отцовскими ботинками.
Ступени были столь же стары и изношены, как и ботинки. Жалкие хлопья краски сохранились только в углах и на нижних поверхностях, где их никто не тревожил. При каждом шаге в воздух вздымались дрожащие облачка пыли. Холстон ощущал вибрацию в перилах — те тоже были истёрты и отполированы до блеска. Его всегда изумляла мысль о том, как человеческие ладони и ступни за многие столетия смогли взять верх над несокрушимой сталью. Вот так и смогли — по одной молекуле за раз, думал он. Каждый из живущих стирал один тонкий слой, в то время как Шахта стирала самих живущих.
Ступеньки слегка провисли, их передний край отгибался книзу, словно выпяченная губа. В центре ступеней почти не сохранилось выпуклых ромбиков, в давние времена не дававших идущим по лестнице поскользнуться. О том, что они существовали, свидетельствовали остатки узора по краям ступеней: там из гладкого металла поднимались маленькие пирамидки с резкими гранями и пятнышками краски.
Холстон занёс старый ботинок над старой ступенью, опустил ногу, перенёс на неё вес тела, потом повторил всё заново. Он забылся в мыслях о том, как бессчётные годы уносят в вечность и молекулы, и людские жизни, слой за слоем превращая их в пыль. И снова, уже в который раз, он думал о том, что ни жизнь, ни лестница не были предназначены для подобного существования. Тесный колодец длинной спирали, пронизывающий круглую Шахту, словно соломинка для питья — стакан, был построен не с этой целью. Как почти всё в их цилиндрическом доме, лестница, похоже, была сделана для чего-то другого, но для чего — никто не помнил. То, что теперь являлось основной дорогой для многих тысяч людей, ежедневно снующих вверх-вниз по ступеням, с точки зрения Холстона, предназначалось для немногих и лишь в экстренных случаях.
Вот и ещё один уровень остался позади — жилое отделение, по форме напоминающее круглый пирог. По мере того как Холстон преодолевал последние два уровня — последние в своей жизни лестничные пролёты — льющиеся сверху звуки весёлых детских голосов становились всё громче. Это был смех юности, смех беспечных душ, ещё не проникшихся сознанием того, где им приходится обитать, ещё не ощутивших гнёта земной толщи. Они не задумывались над тем, что погребены под землёй, они просто жили. В лестничном колодце гуляло эхо их оживленного звонкого гомона, и оно резко контрастировало с твердым решением Холстона покончить счёты с жизнью.
Вдруг один юный голос зазвенел громче, перекрыл остальные. Холстон вспомнил, как сам был мальчишкой, как ходил в школу, играл со сверстниками. В те далёкие годы их бетонный цилиндр, все его уровни: жилые и производственные, гидропонные огороды, вентиляционные помещения с их переплетениями труб — всё казалось огромным, как Вселенная, необъятным пространством, которое никто никогда не был в состоянии исследовать до конца, лабиринтом, в котором он с друзьями мог затеряться навечно.
Но между нынешним днём и тем далёким прошлым пролегло более тридцати лет. Холстону казалось, что со времён его детства миновали две или три полных человеческих жизни. Кому-то другому осознание долгих, хорошо прожитых лет принесло бы удовлетворение, но не ему. Одну из своих жизней он провёл в должности шерифа, и этот тяжкий груз угнетал его, не давал спокойно взглянуть на своё прошлое. И была ещё одна жизнь, тайная, скрытая ото всех. Три года — время, когда последние слои его существа стёрлись и искрошились в пыль; три года, проведённые в молчаливом ожидании того, что так и не случилось; три года, каждый день которых был длиннее целого месяца из его других, счастливых жизней.
Лестница кончилась, и рука Холстона соскользнула с перил — истёртый стальной брус оборвался. Перед шерифом открылось самое большое из всех помещений Шахты: кафетерий и примыкающий к нему салон. Холстон был теперь на одном уровне с голосами играющих детишек. А вот и они сами, смешливые, ярко одетые, носятся по комнате — играют в пятнашки. Горсточка взрослых пыталась внести хоть какое-то подобие порядка в этот хаос. Холстон узнал Донну: та подбирала с замусоренного плиточного пола разбросанные по нему мелки и цветные карандаши. Её муж Кларк сидел в дальнем конце комнаты за столом, уставленным стаканами с соком и мисочками с кукурузным печеньем. Он приветливо помахал Холстону.
Холстон и не подумал махнуть в ответ: не было ни сил, ни желания. Он ни на кого кругом не смотрел; его взгляд был устремлён на панорамный экран на стене кафетерия, который открывал глазу самый широкий в Шахте вид на их негостеприимный мир. Утро. Сумеречный свет окутывает безжизненные холмы — они не изменились со времён детства Холстона. Он прошёл долгий путь от бегающего между столами и креслами мальчишки до пустой оболочки, в которую превратился сейчас, а холмы на экране остались прежними. За их внушительными округлыми вершинами виднелись знакомые силуэты городских небоскрёбов, слегка поблёскивающих в неясном утреннем свете. Древние полуразрушенные здания из стекла и стали возвышались там, где когда-то, согласно предположениям, жили люди. На поверхности.