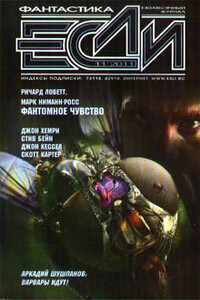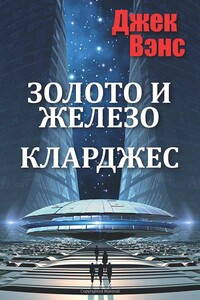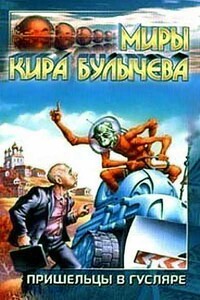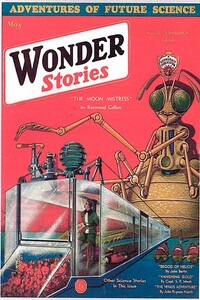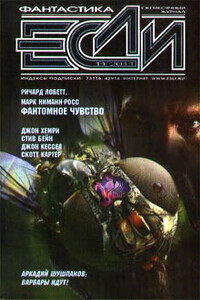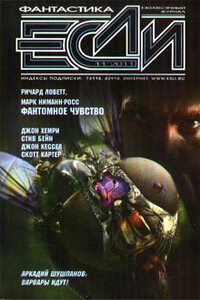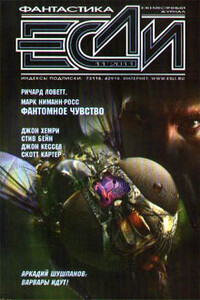>Иллюстрация Майи Курхули
Ее отец преподавал электротехнику в университете и страстно увлекался вакуумными лампами. Когда ей было восемь, он научил ее ремонтировать старые радиоприемники. Сидели они, бывало, на высоких табуретках в его подвальной мастерской да изучали почерневшие внутренности старых «филко» и «стромберг-карлсонов».
— У Ли де Фореста был патент на схему с положительной обратной связью, — втолковывал ей отец, — но он ее попросту украл. На самом деле ее изобрел Эдвин Армстронг[1]. А ну-ка, что это за лампа?
— Это триод, — отвечала она.
— Умница. — Он распаивал проводку и заставлял дочь спаивать ее заново. Тогда его волосы были темными и не столь редкими. Ей нравилось, как уголки его глаз собираются в морщинки, когда он щурился на какую-нибудь монтажную схему.
— Придется попотеть, — объявлял он через некоторое время. — Как насчет стихотворения?
Отец помнил множество странных стихотворений и старомодных песен. Она дула на капельку припоя на конце провода, и едкий горячий запах ударял ей в нос.
— Ладно.
— Одно из моих любимых, — говорил тогда отец. — «Кремация Сэма Макги»[2]:
Чудные дела под полуденным солнцем
Творят те, кто горбатится за золото.
Тропинки Арктики…
— Горбатится? — переспрашивала она со смехом. — Что это означает?
— Ты не знаешь, что означает горбатиться? Чему тебя в школе учат?
— Арифметике.
— Это значит вкалывать, тяжело трудиться. Вот как мы сейчас.
— Почему же нельзя просто сказать «тяжело трудиться»? Звучит почти так же.
— Это поэзия, милая. В ней необязательно должен быть смысл. Дай-ка мне вон ту катушку припоя.
Она не помнила, сколько же воскресных вечеров они провели в его мастерской. Много. И она никогда их не забудет.
На полке над камином, который разжигался исключительно на Рождество, стояла фотография в рамке. С нее смотрели отец, мать и маленькая рыжеволосая девочка — сама Джинни. Они на пляже и щурятся от солнца. Одной рукой отец обнимает маму, вторая покоится на голове дочери.
Джинни ненавидела приезды домой на каникулы. Рождество казалось ей невыносимым. Религиозной семьей они никогда не были, и празднования подразумевали все возрастающее количество джина и вермута. Для матери брак утратил смысл еще годы назад, отец же часами просиживал в своей мастерской; но когда в доме появлялась Джинни, они чувствовали себя обязанными проводить время в одной комнате, и оба, обращаясь как бы к дочери, отпускали замечания, предназначенные друг другу. Насколько она была рада вновь увидеть отца, настолько же ей претило служить баскетбольным щитом для этого брака без любви.
Она была на третьем курсе докторантуры по социолингвистике в Гарварде. Прошлым вечером Джинни со старыми друзьями выбралась в клуб в Санта-Монике, и пробуждение ознаменовалось раскалывающейся с похмелья головой. Она спустилась на кухню, где за столом обнаружила отца в халате, созерцающего чашку кофе.
Он поднял на нее глаза и изумился:
— Кто вы?
Ох уж эти папины шуточки!
— Я Святочный дух Прошлых лет[3], — объявила она.
На лице отца отразилось сильнейшее волнение. Джинни забеспокоилась. Тут на кухне появилась мама:
— Дэн, в чем дело?
С еще более озадаченным видом отец Джинни повернулся к супруге:
— Кто вы? Что это за место?
— Это наш дом. Я твоя жена Элизабет.
— Элизабет? Ты такая старая! Что с тобой случилось?
— Я постарела, Дэн. Мы оба постарели. Конечно, потребовалось время, но это все-таки произошло.
Джинни была отвратительна горечь, звучавшая в ее словах.
— Мам, разве ты не видишь: что-то не так!
Дэн поднял руку и указал на Джинни:
— Кто это?
— Это твоя дочь Джинни, — ответила Элизабет.
— Моя дочь? У меня нет дочери.
Женщины успокоили его, уложили в кровать и вызвали врача. Тот заявил, что отца необходимо отправить в больницу на обследование. Они повезли его в приемное отделение. В дороге он, кажется, пришел в себя, узнавал их обеих и сокрушался о пропущенном завтраке. Дэна отвели в комнату отдыха, дали успокаивающее, и он заснул. Только после этого Джинни наконец-то обратилась к Элизабет:
— Что происходит? Врач не удивился твоему звонку. Это ведь не в первый раз, да?
— У твоего отца болезнь Альцгеймера. Когда ты разговаривала с ним по телефону, разве не замечала, что он стал многое забывать?
Джинни замечала. Но она отнесла это к обычным проявлениям старения.
— Почему ты мне не сказала?
— Ты вроде как близка с отцом. А я просто живу с ним… Мне надо в туалет. — Она развернулась и пошла по коридору.
Джинни села у изголовья и стала смотреть на спящего отца. Его узловатые руки покоились на одеяле. Тыльную сторону правой пересекал рубец от ожога. Веки его дрожали, и время от времени он беспокойно вздыхал: ему снился сон. Интересно о чем, подумала она. Джинни вспомнила, что в детстве видела повторяющийся сон, будто в подвале живет какая-то ведьма, и когда отец просил ее сходить вниз и принести что-то с верстака, она включала на лестнице свет и спускалась и поднималась по ней со всех ног, стараясь не заглядывать в темные уголки. Она хватала инструкцию или отвертку, которые он просил, и неслась вверх, перепрыгивая через две ступеньки.
Джинни протянула руку и погладила отца по редким волосам за ухом. Ему нужно подстричься.