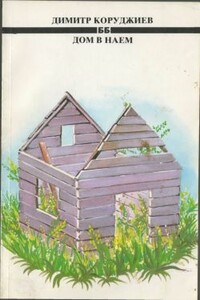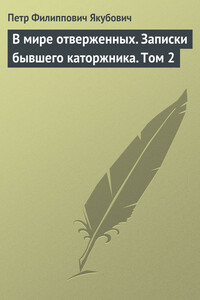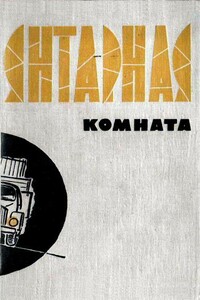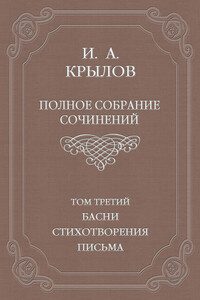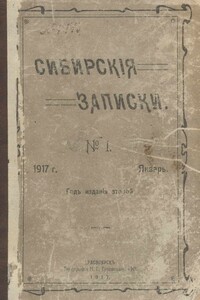Курьерский поезд шёл на всех парах по Николаевской дороге. Была тёмная декабрьская ночь. С потолка падал на дремлющих пассажиров спокойный свет шарообразных газовых фонарей, покрытых шёлковыми синими чехлами. Мерно стучали и звякали колёса вагонов.
В креслах сидели старый генерал в длинных белых усах, молодой, розовенький офицерик, пожилой тучный барин из степной губернии, красавица с томными глазами и в боа, старуха с жёлтым лицом и клыками наружу, девочка-гимназистка, гимназист – сидел и я.
Все молчали.
То было молчание не от скуки, не от нетерпения, не от того, что спать хочется, не от застенчивости. То было странное молчание, напряжённое, само к себе прислушивающееся и тягостное. Дремалось, но в то же время чувствовалось, что сна не будет. Такое состояние испытываешь перед тем, как впасть в гипноз. Ум, по-видимому, бодрствует, всё видишь, что и другие видят, а между тем уже как-то оцепенел, и ежели захочешь двинуть рукой или ногой, то надо призвать на помощь всю силу воли, да и этого огромного усилия бывает иногда недостаточно; кошмар наяву, что ли, – не знаю, как это назвать. И разумеется, ритмическое громыхание поезда, одно нарушавшее молчание глухой ночи, много способствовало тому, что пассажиры погрузились в этот странный столбняк, в это магнетическое усыпление.
И не было никаких определённых дум, а были неясные желания, которые быстрыми образами проносились в душе, бесследно исчезали и расплывались как тучки в сумеречном небе перед дождём, нависшим вдали гнетущей свинцово-синей массой.
Хотя в вагоне было не темно, и ослабленный шёлковыми фонариками свет позволял различать предметы, однако чем дальше, тем гуще становились тени по углам, словно смеркалось. И, право, Рембрандт позавидовал бы фантастическому освещению, в каком рисовались друг другу пассажиры. Необычайной нежности серо-золотистые колера струились вокруг, сквозили на серебряной мгле льющегося в окна снежного отсвета, и полутени мигали чуть-чуть, играя как потускнелый радужный налёт на старинном стекле.
Дверца отворилась, и все почему-то подумали: «Идёт контролёр, надо готовить билеты».
Действительно, впереди показался с озабоченным лицом обер-кондуктор; но он не сказал: «Билеты ваши, господа!» – а только прошёл по вагону. За ним выступал господин средних лет или скорее неопределённых, не то старый, не то молодой, с поношенным лицом, в бородке как на портретах ван Дейка. Он дошёл до половины, сел на свободное место, окинул нас усталым взглядом и сказал: