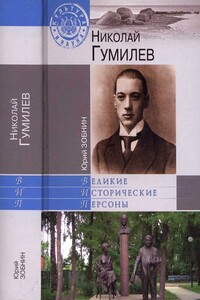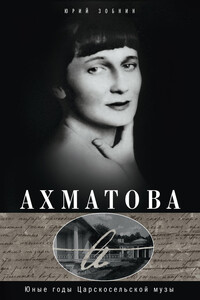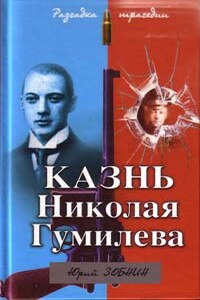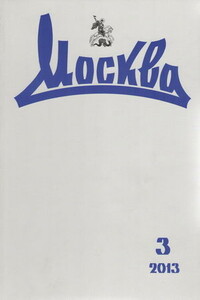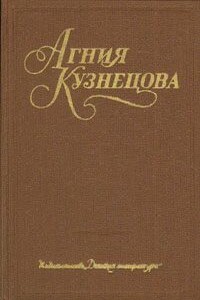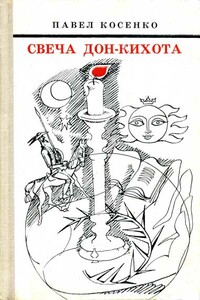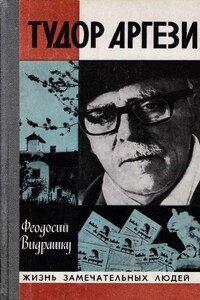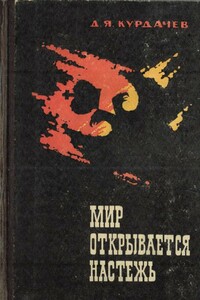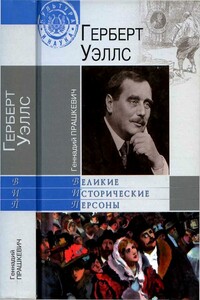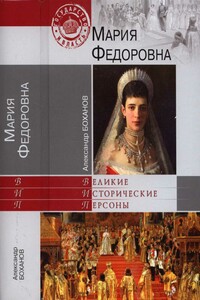Глава первая
Persona non grata
I
9 января 1951 года у себя дома, в квартире ленинградского писательского дома-коммуны на ул. Рубинштейна, 7, была арестована дочь известного фотохудожника, секретарь поэтической и драматургической секции Ленинградского отделения Союза писателей Ида Моисеевна Наппельбаум. Следствие по ее делу продолжалось более девяти месяцев. И действительно, даже на фоне весьма оригинальных процессов той строгой поры, этот оказывался выходящим вон из мыслимого вообще в юриспруденции ряда.
«… Два ленинградских писателя, “друга семьи”, — вспоминала много позже И. М. Наппельбаум, — положили на стол свидетельства, что они видели у меня дома на стене крамольный портрет поэта Николая Степановича Гумилева. […] Я удивлялась, что меня ни разу не спросили, куда девался портрет. Дело шло как по маслу. Я ничего не отрицала. Их интересовало, каков был портрет, его размеры, даже краски. Я описала его с удовольствием, восстанавливая в своей памяти. Только удивлялась бессмысленности всего этого» (Наппельбаум И. М. Портрет поэта // Литератор (Л). 1990. 30 ноября. (№ 45 (50). С. 6). Удивление Иды Моисеевны понять можно — пресловутый портрет, созданный в незапамятные 1920-е годы художницей Н. К. Шведе-Радловой, был уничтожен в 1937 году, четырнадцать лет тому назад.
Следователей, однако, это не смущало. Более того, «следствие даже не поинтересовалось ни моими отношениями с поэтом, ни нашей дружбой, поэтическими встречами, разговорами в студии при доме искусств и у меня дома. Достаточно было наличия в квартире портрета расстрелянного поэта, чтобы признать меня преступницей». Приговор — десять лет в закрытом лагере особого режима.
Задумаемся. Портрет — это не стихи, в которых могут быть враждебные властям сентенции, и не документы, могущие содержать антисоветскую информацию. Портрет — произведение изобразительного искусства, поддающееся всегда весьма вольной интерпретации, и к тому же, коль скоро речь идет о кисти достаточно известного мастера, — недешевое. В конце концов, находилось же и в советские времена в экспозиции Русского музея знаменитое репинское полотно, изображающее заседание Государственного совета, — так на нем и Государь Император Николай Александрович присутствовал собственной персоной, и Константин Петрович Победоносцев, и мало ли кто еще, точно не вызывающие у коммунистических властей прилива нежных чувств. И смотрел ту картину всякий кому не лень и… ничего. Не арестовывали администрацию Русского музея и бабушек из репинских залов в Сибирь не ссылали. А ведь тут еще не надо забывать, что и портрета-то никакого, в сущности, нет. Так, был когда-то, а сейчас даже сама бывшая владелица вынуждена долго восстанавливать его в памяти, понуждаемая настоятельными вопросами следователей: уж больно много воды утекло… И праха его нет, и следа.
Тут еще надо учитывать вот что. Если дело И. М. Наппельбаум нужно было срочно «сфабриковать» (а так оно и было в действительности, ибо сам следователь честно признался, что ее попросту «не добрали в 1937-м»), то к услугам ленинградских сотрудников МГБ был в 1951 году, надо думать, обильнейший материал, ибо, начиная с 1920-х годов вокруг подследственной «враги народа» кишели кишмя. Ида Моисеевна была знакома чуть ли не со всеми литераторами и общественными деятелями, затем большей частью ушедшими либо в эмиграцию, либо в лагеря. Так вот, по меркам тогдашних специалистов из Государственной безопасности факт хранения (пусть и в давнем прошлом) портрета Гумилева (пусть и несуществующего уже в реальности) перевешивал по своей «криминальной» значимости знакомство хоть с тьмою тьмущей «врагов народа» и очевидное обращение через подследственную целых библиотек антисоветчины. «Шить» хранение портрета Гумилева было в данном случае вернее, нежели все прочее. Там, надо полагать, по мнению следственных органов 1950-х годов, еще можно было как-то вывернуться, здесь — невозможно никак.
Можно теперь оценить, так сказать, степень неприятия Гумилева коммунистической властью!
История И. М. Наппельбаум замечательна, но отнюдь не уникальна. Нечто подобное, например, ранее произошло с писателем Вивианом Азарьевичем Итиным (1894–1945), сотрудником журнала «Сибирские огни». В 1922 году он опубликовал в своем журнале коротенькую рецензию на вышедшие только что книги Гумилева: «Огненный столп», «Тень от пальмы» и «Посмертный сборник». В. А. Итин отнюдь не был противником советской власти. Его заметка — не более чем библиографическая аннотация: три абзаца, вполне соответствующие тогдашней стилистике: Гумилев — «неисправимый аристократ», «холодный эстет», его Африка — это «Африка негусов», а Китай — «Китай богдыханов». Словом, все чин чином, комар носа не подточит. Но…
Но в конце заметки, появившейся через полгода после смерти поэта, В. А. Итин, сознавая объективно-некрологический характер отклика, счел нужным добавить: «Значение Гумилева и его влияние на современников огромно. Его смерть и для революционной России останется глубокой трагедией» (Сибирские огни. 1922. № 4; цит. по: Николай Гумилев: Pro et contra. СПб., 1995. C. 485).