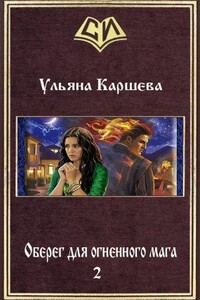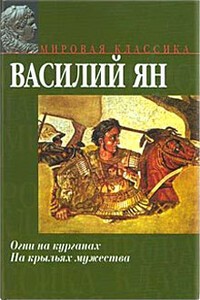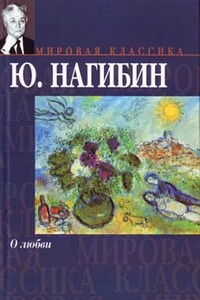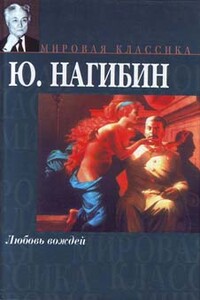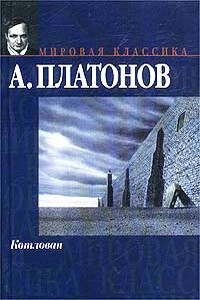Весной 1979 года я ездил с литературными лекциями по американским университетам. В воскресный день в университетском городке Лафайете (штат Индиана), в доме профессора-слависта, где я останавливался, после раннего утреннего завтрака хозяин развернул многостраничное приложение к одной из столичных газет и с алчным видом погрузился в статью, занимавшую целую газетную полосу. Через стол я не мог разобрать ни названия статьи, ни тем паче убористого текста, но большой шаржевый портрет посреди статьи показался мне знакомым — по американской газетной традиции, весьма серьезные, вдумчивые статьи, посвященные знаменитым писателям, ученым, общественным деятелям, принято сопровождать не фотографией, а шаржем, карикатурой, будь это хоть сам Эйнштейн, хоть Томас Манн или Дайсану Икеда. Наверное, это делается для того, чтобы рядовой читатель не чувствовал себя приниженным чужим величием. Хочу поточнее выразить свое впечатление от еще не угаданного портрета: как только я увидел его издали, что-то нежное случилось с моим сердцем — толчок, легкое сжатие, и теплота разлилась в левой части грудной клетки. Этот огромный, преувеличенный карикатуристом сократовский свод черепа, а под ним небольшое терпеливое крестьянское лицо и проницательный прищур цепких, серьезных глаз, смотрящих в самую глубь, конечно же — Андрей Платонов!
Популярное воскресное приложение газеты выходит в миллионах экземпляров. В миллионах американских домов самые разные люди: профессора, ученые, студенты, служащие, рабочие, фермеры, домашние хозяйки, жители северных и южных штатов сказочной Калифорнии, суровой Юты, скалистого Колорадо, равнинной Оклахомы, степного Техаса, багрово-лиловой, пустынной и таинственной Аризоны, на Миссисипи, Потомаке, Гудзоне — вглядываются в простое и прекрасное лицо Андрея Платонова, чью значительность и силу ничуть не принизил карандаш художника, и читают о нем слова, исполненные удивления, восхищения и напряженной мысли, ибо непросто постигнуть такое диво дивное, как Андрей Платонов.
И мне вспомнился далекий печальный январский день 1951 года, когда на Ваганьковском кладбище мы хоронили Андрея Платонова. Казалось тогда, что все кончено для Платонова и ничего уж больше не будет.
Нет, не кончилось, все только начиналось — признание, слава, больше — бессмертье. Платонова издают, переводят на все языки мира — среди множества изданий выделяется и совершенством оформления, и качеством перевода (а своеобразнейшего стилиста Платонова так трудно переводить!) двухтомник, недавно выпущенный в ГДР; ему посвящаются научные сессии; о нем вышла хорошая книга В. Чалмаева, написано множество работ и у нас, и за рубежом (в США по автору повести «Происхождение мастера» защищено более десятка диссертаций), телевизионная передача, сделанная в помощь изучающим его творчество, покинула третью программу и прочно обосновалась в остальных — для неспециалистов; его экранизируют, инсценируют; ему усиленно подражают молодые и даже не слишком молодые писатели. Все это радует, за исключением последнего.
Подражание Чехову, или Бунину, или любому другому русскому классику не так опасно, как подражание Андрею Платонову. Крепкая кислота его фразы выжжет дотла робкие возможности новичка. Он и сам это понимал: «Мне нельзя подражать. Как стал на меня похожим, так и сгинул». В свое время я по достоинству оценил это предупреждение.
Мне не хотелось бы повторять то, что общеизвестно об Андрее Платоновиче, касаться читаного-перечитаного, для этого у меня к нему слишком личное, не остуженное годами отношение. Я позволю себе поговорить об одном из его произведений — повести «Ювенильное море». Не знаю, считал ли А. Платонов эту небольшую повесть законченной или же только свел концы с концами, думая когда-нибудь вернуться к ней и прописать хорошенько, да так и не сделал этого, захваченный другими творческими планами. Вещь, начатая с эпическим размахом, как-то странно утороплена в конце, широкое и глубокое дыхание автора вдруг сбилось, как у бегуна, не рассчитавшего сил, и он доконспектировал свой великолепный замысел.
Но не только замыслом значительно «Ювенильное море»: сокровенный, чисто платоновский человек Николай Вермо, инженер, музыкант, практический и безудержный мечтатель, хочет извлечь на поверхность залегшее в древней толще земли море и заставить служить социализму — поить поля и создавать электричество. Повесть поражает щемяще-прекрасными образами сельских энтузиастов начала 30-х годов, мучительно трудной поры, самоотверженных, одухотворенных людей, чья суть подчинена высокой и яростной мечте.
В каком-то смысле Вермо — это двойник Платонова, тоже инженера, мелиоратора и художника. У обоих горение технической мысли естественно, без перехода превращалось в музыку, только у Вермо эту музыку несла гармонь, а у Платонова — слово. Все силы природы, все стихии, мощный свет солнца и слабый — луны, ветер, скрывшиеся в глубинах земного шара воды, самое вращение Земли и бег ее по орбите хочет превратить Вермо в источник двигательной энергии для пользы строящегося нового общества. Любопытно, что иные утопии Платонова — Вермо становятся ныне реальностью. Уже не только мельницы ловят ветер в свои крылья, но и сложные современные устройства, превращающие его в электричество. Топливный кризис заставляет искать новое горючее, его находят в солнечных лучах, в морских приливах и отливах. Глядишь, из грезы станет явью и Ювенильное море — бездонная поилка для скота, вечный источник энергии и орошения земель.